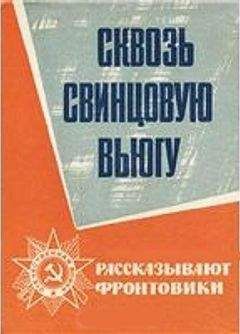Лыков искоса посмотрел на него, зажегся было этой идеей, но, вспомнив свою недавнюю перепалку со старшиной, безнадежно махнул рукой:
— А ну их к лешему! Можно и без лычек.
Вместе с Лебедевым, кудрявым статным бойцом, они, тихонько напевая, пошли в село.
В дни передышки солдаты отоспались, помылись в бане, привели в порядок обмундирование, постриглись, побрились, и сейчас любо посмотреть на них — красивые, загорелые, справные. Они отдыхают, а я все думаю об одном и том же, о своем командирском престиже. Как выдержать ту грань, которая отделяет теплое, товарищеское отношение бойца к командиру от фамильярничания и панибратства?
Вот сколько ни бьюсь, а не могу вытравить в Андрее Лыкове эту черточку. Совсем недавно подошел он ко мне, похлопал по плечу и говорит: «Ну, как дела, Петрович? Все небось о школе, об учениках своих вспоминаешь?» Что, думаю, ответить ему? Оборвать — нельзя, слишком грубо выйдет. Подумает, что я вельможа, зазнайка. «Время сейчас такое, — говорю, — что больше об автомате надо думать, Андрей, а не о чем-либо другом». Смотрю: парень покраснел, пробормотал что-то и быстро отошел. Видимо, вспомнил, как несколько дней назад я пробрал его за невычищенный автомат.
Дивный вечер опускается на землю. Солнце скрылось за дальним океаном полей. Вокруг мягко разливались синие сумерки, и лишь узкая нежно-розовая каемка нависала над темнеющей степью. Где-то вспыхнула и поплыла над селом знакомая мелодия солдатской песни:
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя за то,
Что дал мне закурить.
Недавно из госпиталя вернулся Давыдин. Устроившись в хате, где разместились разведчики, он первым делом по-хозяйски обошел двор, починил обвалившийся плетень, сделал черенок для лопаты, чем несказанно обрадовал старушку-хозяйку.
Сидя на пороге, окруженный разведчиками, Давыдин неторопливо рассказывает:
— Лечился я далеко — в самой Казани. Вначале и попривык было. Ребятишки-татарчата цветы приносят, книжки читают. Такие забавные, шустрые пострелята. У себя в палате кино смотрели, артисты выступали. А потом надоело мне все это. Скучать стал. Лежишь, бывало, а сам все о своей роте вспоминаешь. Где, думаю, сейчас шагают ребятки? Какие города освобождают? И такая тоска на меня нападала — не выговоришь.
Несколько секунд Давыдин молчит, как бы что-то вспоминая или к чему-то прислушиваясь. Затем скуластое лицо его светится в улыбке.
— А ведь Нинка-то моя, паря, сейчас какими делами заворачивает! Пишет, что в Иркутске была. Грамоту ей там почетную выдали, как лучшей в области трактористке. Три письма получил от нее, пока в госпитале лежал... Да, славная она у меня, работящая.
Над Привольным незаметно разлеглась ночь, мартовская ночь, удивительно чистая, хрустальная. И редкие светлячки-звездочки, и полурог месяца, нависший над лиловым небосклоном, кажется, сделаны из чистейшего золота. На противоположной окраине села чуть слышно звенит девичья песня-думка.
...Проснулся я на рассвете — и спросонья не могу понять, что происходит: где-то близко беспорядочно срываются пулеметные очереди, раздаются ружейные залпы.
Я быстро оделся, схватил автомат и побежал к сборному пункту. Здесь в полной боевой уже собрались все разведчики. Старший лейтенант Д. М. Неустроев торопливо сообщил, что немцы численностью до трех взводов переправились через Ингулец и ведут обстрел села. Это были остатки вражеской группировки, окруженной нашими войсками в районе Березнеговатое. Часть из них, выбираясь из окружения, двигалась через Ингулец и Привольное на соединение со своими.
— Берите группу и двигайтесь в район переправы! — приказал мне командир роты.
Захватив побольше гранат, мы побежали в указанное место. Вот и окраина села. Здесь идти уже небезопасно: над головой посвистывают пули. От дома к дому делаем короткие перебежки. Вскоре все становится ясно: в подвалах домов, примыкающих непосредственно к деревянному мосту через Ингулец, засели гитлеровцы. Из подвальных окон с визгом режут воздух пулеметные очереди.
К нам на помощь спешат бойцы из учебного батальона.
— В лоб не возьмешь. Только своих погубишь, — замечает один из офицеров учбата. Вдруг он выпрямился и громко крикнул: — Обтекай дома, ребята!
Рассыпавшись между домами, мы ползком подобрались к подвалам, где засели немцы. Над ухом дзенькают пули. Рядом со мной Зиганшин. Лицо Ахмета раскраснелось, глаза полны отчаянной решимости.
До ближайшего подвала теперь не более пяти-шести метров. В два прыжка Ахмет оказался у стены, вровень с окном, и, размахнувшись, кинул туда противотанковую гранату. Проходит несколько секунд — и тяжелый взрыв потрясает здание. Из подвальных окон ползет черный, удушливый дым.
Выбрав момент, я тоже подбегаю к одному из окон и тоже бросаю связку гранат. Снова тяжелый удар.
Разведчики окружили подвалы. Взрывы гранат следуют один за другим. Разносится трескотня выстрелов. Все вокруг окуталось белесым дымом.
Уцелевшие гитлеровцы с поднятыми вверх руками выходят из подвалов.
В этом коротком бою в Привольном горсточка разведчиков вместе с бойцами учебного батальона захватила двадцать пленных. Немало гитлеровцев нашли здесь себе могилу.
...Кто-то из наших бойцов, находясь в разведке, привел в роту пленного.
Это был невзрачный, коротконогий солдат, один из тех незадачливых вояк «фольксштурма», которые теперь часто встречались на нашем участке фронта. Перед отправкой в тыл он долго жил в нашей роте: время было горячее, дивизия шла почти без передышки, преследуя врага, отступавшего за Южный Буг.
Мы наступали, и он с нами. И дело нашлось подходящее: помогать ездовому за лошадьми ухаживать. Остановимся на привале, а немец, переваливаясь как утка, уже колтыхает с ведрами за водой или овес коням подсыпает. Поглаживает сытые лошадиные бедра и языком прищелкивает:
— Гут пферд[10], гут...
А потом возьмет скребницу и щетку и давай наяривать по лошадиным бокам.
Аппетит после работы у пленного всегда разыгрывался отменный: даст ему повар котелок жирного, наваристого борща — вмиг уплетет.
Как-то на привале, собрав все познания в немецком языке, я разговорился с Паулем. Тыча себя кулаком в грудь, смешно надув щеки, пленный объяснил, что по профессии он рабочий-батрак, трудился у какого-то гроссбауера на ферме, что у него семья, четверо «киндер» и что его взяли на фронт только в прошлом году, до этого он числился нестроевым.
Я поинтересовался армейской специальностью немца. Пленный опять ткнул себя в грудь и показал на мирно жующих лошадей: