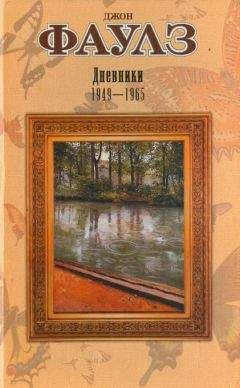Назад, в Лайм.
15 сентября
Отца осматривал специалист. Началась гангрена — ногу придется отнять. Странно, такие вещи почти заставляют меня вновь поверить в Бога. Нужно куда-то излить черную ярость.
16 сентября
Звонок от М. Операция прошла успешно, отец болтает с медсестрами; выглядит повеселевшим. Он думал, его оставили в лечебнице умирать (сейчас он в Саутенд-Дженерал-Хоспител), а теперь видит: что-то делается. По словам сестер, нога долгое время будет сильно его беспокоить.
19 сентября
Уведомление от фирмы «У. Г. Смит», что я выиграл премию в тысячу фунтов.
25 сентября
Еду один в Ли. Отец выглядит ослабевшим, а в остальном перемен нет. Надеялся, что смогу быстро вернуться в Лайм, но из клиники отца выпишут в течение десяти дней, и М. в панике. Лайм и покой кажутся такими же далекими, как Геспериды. Никто не хочет, чтобы я был писателем.
28 сентября
Назад в Лайм. Теперь Элиз ссорится и плачет всю дорогу. Якобы я ее презираю, не замечаю и т. д. У меня ощущение, что голова сейчас лопнет. Дома мы продолжали спорить до утра. Она хочет продать Белмонт. Говорит, надо приобрести несколько маленьких домиков в этом районе и жить в каждом по нескольку месяцев. Нужно приучиться писать везде. Я слушал ее и думал о саде. Цветет бересклет. Пытаюсь объяснить, что мне хорошо здесь пишется, здесь покой и тишина; мне необходимо знакомое окружение, чтобы не возникал порыв заново все изучать, чтобы можно было сосредоточиться на работе. Не могу постоянно переезжать из одного неизвестного места в другое.
17 октября
Джад продал «Ничтожество» Сидни Глазьеру. Пять тысяч долларов — на сценарий[160]. Роджер Б. пришел бы в ужас, узнав, что я так дешево себя ценю. Дэвид Тринэм тоже хочет попробовать что-нибудь сделать из рассказа «Последняя глава»[161].
Неожиданно из Бристоля приехала Анна с новым бойфрендом — после бурной сцены Эрика прогнали. На этот раз ее друг — сын врача из Уэльса, наружность неприметная, манеры и все остальное как у сына уэльского рабочего. Нам кажется, эти юнцы надевают в нашем присутствии своего рода маску — чтобы узнать, насколько они с их неотесанностью будут нам неприятны. Как выяснилось, даже Анне он не очень-то нравится: «но что делать, если другого нет». Я вижу в ней голубку с подрезанными крыльями, угодившую в вольер с ястребами. Пухленькая, мягкая — подходящая жертва для эмоционального насилия. Мне приходит на ум, что короли из старых сказок с их жестким отбором претендента на руку принцессы были не так уж неправы. Нашего юнца из Уэльса такой король сразу же скормил бы символу страны[162].
18 октября
Прелестный октябрьский день. Едем в Лондон. Вечером встречаемся с Томом и Фей. У нас ощущение, что не все тут гладко. Малышка прелестная, совершенная китаяночка. Том показывает фотографии: «Разве она не похожа тут на еврейку?» Фей корчит гримасу. Носик у девчушки совсем не еврейский и материнские глаза — миндалевидные, очень красивые. Сейчас эти глаза усталые — видно, что уход за ребенком, помимо заботы о Томе, совершенно измучили Фей.
19 октября
Еду на Лайм-Гроув, где располагается Би-би-си. Интервью с Кеннетом Олсопом сразу не заладилось: что-то булькает в батарее центрального отопления, затем ломается микрофон. Появляются техники, продюсер. Олсоп в гневе. Беседа не удалась. Я не умею готовиться заранее, не умею говорить просто — особенно, когда задают вопросы общего порядка: ответ на каждый из них займет всю передачу.
20–23 октября
В Ли. Отец слабеет; это понятно, потому что он не признает ухудшения, все чаще говорит о времени, когда отсюда выйдет. Возможно, это сознательная самозащита: в больничной палате витает дух безнадежности. Я все больше склонен считать, что проблема тут эстетическая. Плох не уход, а внутренняя обстановка — точнее, ее полное отсутствие. Почему людям приходится умирать в узких, безликих комнатах — комнатах, которые сами страдают: ведь никто никогда не окинул их любовным взглядом.
Вечер в Лондоне. Ронни П. познакомил нас с Селией. Нам она сразу не понравилась: высокая, гибкая, тонкая — вот-вот переломится (не люблю таких женщин), длинные белокурые волосы, слегка тевтонский вид, немного не от мира сего. Мы не сочли ее интересной, а она нас. За обедом в китайском ресторане в Сохо мы с ней неожиданно заспорили — совершенно нелепый спор об авторском праве. У Селии обычное презрение человека с Флит-стрит к авторам, к тем, кто «не может обеспечить себе приличное существование» сочинительством. Бедняга Ронни пытался быть третейским судьей, но тут в спор вступила Элиз и повела себя еще непреклоннее, чем я. В конце концов Селия забормотала: «Может, я не права. Мне ясна ваша точка зрения…» Странная сдача позиций. Необходимость в этом отсутствовала. Было очевидно, что мы не совместимы. Взятие слов назад только ухудшило положение.
Не понимаю Ронни. В наихудшем своем состоянии Бетса лучше, чем эта марионетка на пределе своих возможностей.
24 октября
Возвращение в Лайм. Я сильно простудился и в конце концов позволил простуде загнать меня в постель.
26 октября
Когда около десяти я спустился вниз, Элиз сказала, что в восемь утра звонила мать: отец умер в пять, перед самым рассветом. У нас гостит мать Элиз; обе женщины смотрели на меня, боясь, что я утрачу самообладание. Но я не ощущал горя — только облегчение. Думаю, мои мысли о смерти лучше всего переданы в «Миссис Дэллоуэй»[163]; подлинная смерть наступает, когда тебя больше не помнит ни одна живая душа — словно тебя и на свете не было. Я же ощущаю, что он продолжает жить во мне. То, что я никогда его больше не увижу, похоже на то, как если б я никогда не прочел еще раз вот эту книгу, не увидел вот этого места или не выпил больше этого вина. Такое можно вынести. Я вернулся в постель, весь день читал и не думал об отце.
30 октября
Едем в Ли на похороны отца. Моя простуда обострилась бронхитом, Элиз тоже больна. Мы подъехали к дому № 63 до появления катафалка[164] — белый гроб, медные ручки. Интересно, гроб откроют, прежде чем остальное отправить в топку. Мать со мной и Элиз едет за катафалком в черном «роллс-ройсе». В крематории нас ждут Фаулзы из Саутенда; Стенли и Эйлин; Джеффри Вулф, порочный сын Герти Фаулз, — мягкий, пришепетывающий джентльмен, похожий на отошедшего от дел управляющего банком. Абсурдная заупокойная служба в «современной» церкви; за окном — кирпичный водоем с золотыми рыбками. Жуткий старик-священник портит всю церемонию — чувств в нем не больше, чем в пластиковом ведре. Думаю, он за час пропускает не меньше четырех покойников. Отца бы от этого передернуло. Я чувствовал себя отвратительно: нельзя так провожать; уж лучше проводить полностью англиканскую церемонию. Странно, но я больше переживал на кремации бедняги Кемерона из училища «Сент-Годрик»[165]. А сейчас мне просто хотелось поскорее отсюда уйти; жалкий субъект в белом пасторском воротнике бормотал слова утешения, глядя на меня рыбьими глазами и опираясь на кафедру.