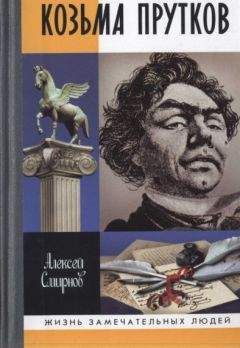В связи с пушкинской репликой поэт Антон Дельвиг заметил: «Эпиграммы пишутся не на лицо, а на слабости, странности и пороки людские. Это зеркало истины, в котором Мидас может увидеть свои ослиные уши потому только, что он их имеет на самом деле»[110].
Булгарина, однако, такое разъяснение не утешило. В своем якобы пересказе из «английского журнала» того, что происходит во «Франции», — в «Анекдоте», построенном на подлых аллюзиях, Булгарин сообщает: «В просвещенной Франции (читай: в России. — А. С.), <где> иноземцы, занимающиеся Словесностью (читай: поляк Булгарин — писатель, журналист, редактор. — А. С.), пользуются особым уважением туземцев (русских читателей. — А. С.), появился какой-то Французский стихотворец (Пушкин; обыгрывается его лицейское прозвище — „Француз“. — А. С.), который, долго морочив публику передразниванием Байрона и Шиллера (хотя не понимал их в подлиннике), наконец упал в общем мнении, от стихов хватился за Критику („Эпиграмма“ на автора „Анекдота“. — А. С.)…» А далее по законам классического подлога свои грехи Булгарин приписывает оппоненту, утверждая, что «сей француз» — ничтожный виршеплет, «у которого сердце холодное и немое существо, как устрица», что он — «пьяница, доносчик и нечист на руку за карточным столом»[111]. Одного этого пассажа достаточно для того, чтобы представить себе моральный облик обличителя. Вслед за трусливым географическим маскарадом идет бездоказательное огульное обвинение Пушкина в «передразнивании» «Байрона и Шиллера», хотя до этого он величался поэтом «гениального вдохновения». И, наконец, клеветнический веер пороков, раскрытый рукою опытного шулера, понаторевшего в подтасовках и передергиваниях.
Такие публичные оскорбления в адрес поэта и дворянина, человека обостренного чувства чести, могли бы послужить достаточным поводом для дуэли. Но дуэль не входила в планы Фаддея Венедиктовича. Он собирался жить долго, и это ему удалось. Родившись на десять лет раньше Пушкина, Булгарин пережил Александра Сергеевича на двадцать два года, а его фамилия до сих пор воспринимается как символ фарисейской «благонамеренности».
О Борисе Михайловиче Федорове известно меньше. Журналист, издатель, автор исторического романа «Князь Курбский» и массы детских стихотворений, он «прославился» своей «благонамеренностью» в том же смысле слова, что и Булгарин. Как литератор он был для Пушкина, по всей вероятности, утомительно скучен. Поэт обратился к нему единственный раз и в минимально возможной форме — с двустишием:
Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи;
Не усыпляй меня — иль после не буди.
А деятельность Федорова-критика, причастного к Третьему отделению, вызвала острую эпиграмму С. А. Соболевского:
Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.
Отчетливая неприязнь создателей Козьмы Пруткова к двум вышеупомянутым лицам (Булгарину и Федорову) очевидна. Предположительно прутковскими считаются опубликованные в журнале «Искра» за 1861 год две пародии на Федорова — детского поэта.
ДЕТСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (Подражание Борису Федорову)
I Праздник Васеньки
Дни праздника настали[112],
Давно он Васей ждан,
И Васеньке рубль дали
На шар и барабан[113].
Опекуна он ручку
За то облобызал,
А опекун-то штучку
Для праздника сыграл:
В тот день, как Васе дал он
На шар и барабан,
Из средств его украл он
На целый шарабан.
II Серафимочка
Столик милого дитяти
Весь игрушками покрыт.
На скамейке, у кровати
Серафимочка стоит.
Серафимочка любезна!
Так и в жизни муж иной
Целый век свой бесполезно
Занят кукольной игрой.
19…взгляды г. Бланка… — Козьма Прутков разделял взгляды на крестьянскую реформу публициста Григория Борисовича Бланка (1811–1889), называя их «справедливыми»: Бланк был категорическим противником освобождения крестьян.
20 Может быть, это мне удастся, а может быть, и нет. — Козьма Петрович, подобно большинству авторов, непременно хотел видеть свои произведения в печати. Естественная потребность — ибо лишь опубликованный опус создает ощущение завершенности труда. Козьму Пруткова, как мало кому известного директора Пробирной Палатки, снедала честолюбивая жажда славы великого поэта. Оттого он и сетовал: «Неизвестность… моих… литературных трудов… не дает мне покоя». Он мечтал быть опубликованным полностью, сразу же после первой публикации в «Современнике» начав хлопоты по изданию «Полного собрания сочинений» и неоднократно напоминая, что в его портфелях бережно хранится множество творений, еще не увидевших свет. И действительно, в последнем из знаменитых сафьянных портфелей автора за нумерами и с печатною золоченою надписью «Сборник неоконченного (d’inacheve №)» были якобы обнаружены неведомые ранее сочинения разных жанров, предположительно принадлежащие перу Козьмы Пруткова, а именно:
— 175 новых афоризмов;
— 46 неопубликованных стихотворений;
— 7 басен;
— 2 эпиграммы;
— 2 поэтических перевода с германского и гишпанского;
— «Азбука для детей Косьмы Пруткова с прибавлениями, прежде исключенными цензурой»;
— «Поминальный пикник по случаю кончины Фаддея Козьмича Пруткова» (сына) — стихотворное дополнение к «Военным афоризмам»
и, наконец:
— «Венок Пленире» — первый в истории русской поэзии венок сонетов.
Лишь малая часть нашей «находки» опубликована в периодике: афоризмы[114] и подборка стихотворений[115]. А полностью «находка» впервые представлена в отдельном издании[116].
21…ирокезцами… — Всеобъемлющая эрудиция поэта и мыслителя распространилась и на этнографию. Ирокезцы, или правильнее ирокезы — индейские племена Северной Америки со звучными прозваниями: сенека, кайюга, онондага, онеида, могавки, тускарора…
22…с одним из губернаторов… — Возможно, с Александром Михайловичем Жемчужниковым — гражданским губернатором Вильны. К А. М. Жемчужникову как к своему опекуну Прутков мог входить без спроса в любое время.