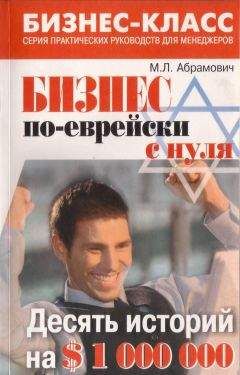«Дворик» был небольшой, метра четыре на четыре. Разговаривать или кричать категорически запрещалось (за этим следили часовые, находящиеся над коридором). Часовым сверху было все видно, и, в случае нарушений, прогулка прекращалась, а нарушителя отправляли в камеру.
Эти «прогулки» доставляли много радости и печали.
Как хорошо после камеры видеть небо (больше ничего не было видно), даже если идет дождь или снег, но шум улицы, доносившийся снизу, а в особенности бой часов на Спасской башне Кремля (слышимость была изумительной), вызывали тяжелые воспоминания.
Я старался ни о чем не думать, и только мысль, что впервые день рождения детей будет без меня, волновала.
Через несколько дней после моего ареста, меня после завтрака стали водить на допрос.
Камеры для допроса находились внизу, куда опускались на лифте.
Камера для допроса имела окно, забранное решеткой. В ней стоял письменный стол, загораживающий окно, за которым сидел следователь; сбоку стоял диван. В углу, при входе, к полу были прикреплены столик и табуретка, на которую сажали заключенного.
Сидя на табуретке и упираясь спиной в стену, а ноги держа под столиком, вскочить было невозможно.
Вот в такую камеру для допросов и стали меня ежедневно водить.
Я забыл еще сказать, что на столе у следователя был телефон с отводной трубкой, а расстояние между его столом и столиком было метра 2–3.
В первый допрос следователь сказал, что зовут его Иван Иванович, и он будет вести мое дело.
Не знаю для чего, но он сообщил мне, что сам он из Гомеля и это его первое дело, от исхода которого зависит его карьера.
И так начались допросы.
Первые допросы касались моей биографии, и скрывать тут было нечего.
Я уже знал, что арестован по делу Ройфмана, который был арестован и находился в Бутырской тюрьме. Мне прочитали его показания, касающиеся меня, так что ничего не оставалось, как повторить некоторые из них, признав свою вину. Но дальше, как говорят, дело застопорилось.
Повторяя сказанное раньше, я ничего нового не говорил и ни каких фамилий не называл. Тогда на одном из очередных допросов, в присутствии еще одного следователя, мне предъявили альбом с фотокарточками и попросили посмотреть их, назвав, кого я знаю.
Дня два я рассматривал альбомы, но признал из всех только одну фотокарточку, на которой был изображен я сам, но и то, высказав сомнение.
Тогда мой следователь прибег к другому методу.
Во время допроса он звонил по телефону моей жене и держал трубку, не прижимая к уху, так, что мне хорошо был слышан голос жены.
Он предлагал мне взять отводную трубку и поговорить с ней, но неизменно получал в ответ отказ.
К обеду меня уводили в камеру, потом на прогулку и, очень редко, опять на допрос.
Сейчас я сам не могу понять, откуда у меня брались силы держаться. И, все – таки, один раз я не выдержал и согласился в камере написать обо всем, что интересовало следователя.
Я запомнил этот день – день 21 октября 1962 года, день, когда моему сыну исполнилось десять лет, а следователь, после очередного разговора с моей женой и поздравления ее с рождением сына, стал говорить мне о детях. Я сломался и дал согласие.
Меня отвели обратно в камеру, дали бумагу, чернила, ручку, и я сел писать.
Лучше бы у меня была плохая память! Но, к сожалению, я помнил все и начал свое повествование с 1948 года, когда впервые пошел работать в торговлю.
Я был, как в тумане, и писал целый день, прерываясь на обед и ужин. И за весь день меня ни разу не побеспокоили, даже на прогулку не водили.
Я ничего не соображал. Только к вечеру, закурив и прохаживаясь по камере (три шага до двери, поворот и обратно), я ужаснулся тому, что написал.
Сколько еще семей попадут в такое положение, как моя? Сколько людей я сделаю несчастными, а себе не помогу и даже ухудшу свое положение.
Теперь у меня была только одна задача: как уничтожить все написанное.
Видно надзиратели получили указания не мешать мне и, видя, что я целый день писал, ослабили внимание.
Перед отбоем, как и каждый день, меня повели в туалет, а я спрятал на груди все мною написанное.
Обычно, в туалете меня держали минут десять-пятнадцать, так как я успевал выкурить сигарету.
В туалете не было обычных сливных бачков, а вода сливалась очень часто сама, так что за это время я успел, разорвав на мелкие кусочки все мною написанное за день, незаметно спустить в унитаз.
Когда на другой день меня привели на допрос, следователь первым делом потребовал, чтобы я отдал ему то, что написал.
Я никогда не видел его таким, когда он узнал правду. Если бы он мог, то убил бы меня.
И опять потянулись однообразные дни. Каждый день меня водили на допрос, но я молчал и не хотел говорить со следователем.
Он читал мне показания других, арестованных по делу Ройфмана, и спрашивал мое мнение, но я молчал, пока не наступало время отправить меня в камеру. Ни одного протокола я не подписывал. Так продолжалось много дней. Потом меня прекратили водить на допрос и несколько дней не беспокоили.
Проходили дни за днями, и, если бы не книги, я бы сошел с ума, но они меня выручали.
Я завел себе такое правило: прочитывал пятьдесят страниц, делал перерыв и ходил по камере туда и обратно, считая вслух, тысячу раз; потом курил сигарету и снова садился читать. На мое «счастье» библиотека была очень хорошая, и книг хватало.
Что было с моей семьей – женой и детьми я не знал, а мог только догадываться.
Лишнее знание – лишние слезы.
Когда папу везли на Лубянку, в нашем доме творился беспредел: в платяной шкаф складывались и опечатывались все наши вещи. Занимались этим сотрудники КГБ – майор Серегин, капитан Матвеев, капитан Громов и лейтенант Богусевич.
Когда начались холода, мама обратилась с заявлением к председателю комитета Государственной безопасности при Совете Министров СССР тов. Семичастному В.С. с просьбой выдать необходимые нам теплые вещи, которые не попали в опись имущества, но были опечатаны в шкафу. Из «Протокола о вскрытии шкафа» от 10 октября 1962 года можно узнать, что сотрудник КГБ при Совете Министров СССР капитан Матвеев в присутствии понятых вскрыл опечатанный шкаф и выдал разные вещи, не входящие в опись имущества, среди которых под номером 3 значится одна пионерская кофточка.
В нашей 20-ти метровой комнате в коммунальной квартире в тот день несколько часов подряд шло удивительное действо: усиленно искали спрятанные сокровища.
И мне, и маме запомнился один трудолюбивый сотрудник, который ковырялся ложкой в сахарнице, очевидно, ожидая найти бриллианты. Потом мы даже были благодарны ему за это поведение: эта ложка осталась вне описи имущества, хотя была серебряной и с позолотой (из комплекта чайных ложечек, подаренных маме на свадьбу).
Так как особых ценностей сотрудники КГБ найти не смогли, в опись имущества попали «предметы роскоши»: пылесос, холодильник, платяной шкаф, книжные полки, чайный сервиз, скатерть, полуботинки, мужские брюки…
Хорошо, что папа не знал о том, что было с нами потом. Как исключали из коммунистической партии маму за потерю бдительности, но еще более за отказ развестись с мужем; как соседи по коммунальной квартире писали доносы и устраивали истерики в товарищеских судах, требуя выселить нас из квартиры, выгнать маму с работы, а меня из советской школы; как много подлостей, несправедливостей и даже жестокости творили с нами. Но это тема слишком объемная, чтобы включать ее в это отступление от основного текста папиной рукописи.
Внутри у меня все умерло, жить не хотелось.
Так прошло несколько дней, пока однажды меня снова не повели на допрос.
Зайдя в камеру для допроса и сев на свое привычное место, я обратил внимание, что на диване сидит грузный пожилой мужчина, молчавший во все время допроса.
В этот допрос были опять только данные о моем происхождении и о родителях, поэтому я отвечал, и протокол допроса подписал.
На следующий день меня повели на допрос не вниз, в камеру, а на третий этаж и ввели в большой кабинет.
Два больших окна выходили на площадь Дзержинского, так что мне был виден памятник и вход в метро.
Около окон стояли три письменных стола, за которыми сидели следователи, отгородив меня от окон.
У входа стоял четвертый стол, а к нему был приставлен маленький столик, за который меня и посадили.
Один из следователей стал мне задавать анкетные вопросы и заносить их в протокол допроса, два других – сидели молча.
Когда он заполнил анкетные данные, в кабинет вошел мужчина, присутствовавший на моем допросе у Иван Ивановича. Назвавшись руководителем группы следователей, занятых расследованием дела Ройфмана, – полковником Сыщиковым, он, ходя по кабинету, начал просто кричать и угрожать мне.
Смысл его угроз в мой адрес сводился к одному: если сейчас же я не расскажу все, что знаю, то у них такая власть, что могут выпустить до суда, но могут и расстрелять.