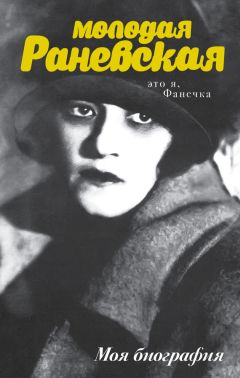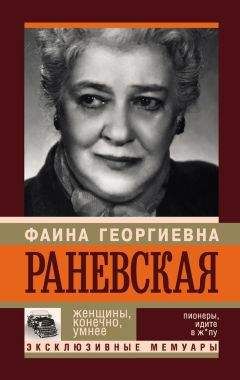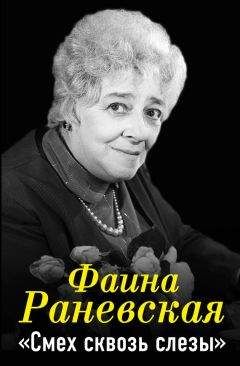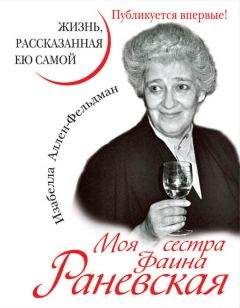С амплуа, кстати, в Художественном театре вышел конфуз. Театральный гардеробщик, получив от Фаины рубль, посоветовал ей не пытаться пробиться к «самим» (так он называл Станиславского и Немировича-Данченко), потому что «сами» вечно заняты и до простых смертных снисходят редко, а поговорить с Леопольдом Антоновичем Сулержицким, правой рукой Станиславского. Сначала все складывалось хорошо. Сулержицкий оказался знаком с Чеховым. Разговор сразу же перешел на творчество великого писателя, и Фаине удалось сделать парочку умных замечаний. В глазах Сулержицкого загорелся интерес (это такие особенные искорки, их надо уметь видеть), но всего на несколько минут. Когда Фаина упомянула про амплуа, Сулержицкий поморщился и сказал, что Константин Сергеевич категорически против амплуа, потому что амплуа есть не что иное, как штамп и кандалы, ограничивающие свободу творчества. Фаине стало ужасно стыдно. Желая произвести благоприятное впечатление, она распиналась в своей любви к Художественному театру, восхищалась гением Станиславского, и не знала такого важного факта! От волнения с Фаиной прямо в небольшом кабинетике Сулержицкого случился обморок. Когда Фаина пришла в себя, то услышала, что для актрисы она чересчур впечатлительна. Сулержицкий посоветовал ей принимать бром и пригласил на какие-то драматические курсы, на которых сам же и преподавал. Ни названия курсов, ни адреса Фаина не запомнила, да и не хотелось ей больше встречаться с Сулержицким после такого двойного позора. Отметила в уме, как деликатно ей отказали – не просто «нет», а предложили курсы – и ушла, глотая на ходу слезы. В аптеке купила брому, хотя на самом деле хотелось купить стрихнину или цианистого калия. На душе было так погано, что жить не хотелось. На Художественный театр Фаина возлагала огромные надежды. Непонятно почему, но ей казалось, что ее примут в труппу – проклятая провинциальная самонадеянность. А ей отказали, причем даже без проб – ни изобразить что-нибудь не попросили, ни продекламировать. Сулержицкий наметанным взглядом распознал в ней отсутствие таланта и решил сэкономить время. С горя Фаина заказала в номер полбутылки дорогущего «Шато Озона», оказавшегося невкусной кислятиной. Кошерное вино, которое пили дома, было сладеньким и приятным на вкус. От «Шато Озона», стоившего чуть ли не вдесятеро дороже, Фаина ожидала чего-то невероятного, но ее ожидания не оправдались…
Ожидания вообще не оправдывались. Отказы шли один за другим. Постепенно Фаина заводила знакомства в театральной среде. Знакомства были незначительными – гардеробщики, суфлеры, актеры из разряда «кушать подано», – но полезными. Никто не раскроет театральное закулисье так, как гардеробщик, который все про всех знает. Никто не обрисует ситуацию на актерской бирже лучше актрисы, успевшей в свои двадцать с небольшим хлебнуть лиха большой ложкой. Что же касается суфлеров, то у них по всем театрам раскинута невидимая сеть тайного суфлерского братства, которое иногда может оказаться полезней масонского. Несколько раз суфлеры давали хорошие советы, но даже там, где была нужда в актрисах, Фаине отказывали. Когда после проб, а когда и до них. Больше всего портило впечатление ее заикание, имевшее обыкновение усиливаться от волнения. А если собеседники смотрели насмешливо-снисходительно или начинали иронично улыбаться, то Фаина и собственного имени без запинки произнести не могла, не то что монолог Софьи прочесть. Хороша актриса, нечего сказать!
Временами у нее мелькала мысль о том, что отец, наверное, был прав. Актриса из нее не получится. Все похвалы, которыми за четыре рубля в месяц осыпал ее Абрам Наумович, можно забыть. «Нет, получится!» – пугалась Фаина и вечером, перед тем, как заснуть, разыгрывала в лицах отрывок из какой-нибудь пьесы перед маленьким и тусклым зеркалом, висевшим на стене.
Зеркало было таким, потому что экономии ради пришлось переехать в меблированные комнаты «Альгамбра» в Большом Гнездниковском переулке. Вывеска напомнила юной любительнице поэзии про «узорчатой Альгамбры колоннады иль рощи благовонные Гренады»[9], но внутри ничего подобного не было и в помине, во всяком случае, в сорокакопеечном номере. Там пахло затхлым, а узор на стене состоял из пятен, оставленных погибшими клопами. Одна только радость, что «Альгамбра» находилась в центральной части, в двух шагах от бульваров, по которым Фаина уже привыкла гулять. Просить денег из дома не хотелось. Мама бы ужаснулась, узнав о том, что за каких-то два месяца дочь растранжирила четыреста пятьдесят рублей (про сэкономленные пятьдесят никто, кроме Фаины, не знал). С разменом последней «катеньки»[10] началась другая, совершенно нероскошная, жизнь, позволившая неопытной восторженной дурочке сделать кое-какие выводы и познакомиться с изнанкой столичной жизни. «Москва бьет с носка», сочувственно сказал Фаине гардеробщик Малого театра Василий Иванович. Так оно и было. С носка, да с размаху…
Обедать за двугривенный и жить в «Альгамбре» было нестрашно. Страшным казалось полное отсутствие перспектив. Фаина упорно моталась по Москве, теперь уже не на извозчиках, а где пешком, где на трамвае. На трамвае, несмотря на толкотню в вагонах, ездить было интересно. Фаина никак не могла понять, как едет трамвай без лошади. Знала, что электричество, но понять все равно не могла. Про автомобили ей еще в Таганроге объяснил брат Яков, а про трамвай он объяснить не мог, потому что в Таганроге не было трамвая. Да и автомобили можно было по пальцам сосчитать, не то что в Москве. На один автомобиль, блестящий, роскошный, похожий на сделанную из пламени небесную колесницу, Фаина так загляделась, что едва под него не попала. Это было давно, в прошлом месяце, еще в пору великих надежд…
Жизнь катилась под уклон как сброшенный с горы камень. Из «Альгамбры» Фаине пришлось съехать после скандала. Кто-то из соседей, услыхав, как Фаина репетирует вечерами, наябедничал хозяину, что она, дескать, водит к себе мужчин. Фаину выставили вон, потому что «Альгамбра» – приличное заведение. Ага, «приличное», как бы не так! Просто те, кто водит гостей, должны доплачивать за то, чтобы хозяин закрывал глаза на их промысел, в этом все дело. Бойкости от московской жизни у Фаины изрядно прибавилось, поэтому в ответ на «гулящую» она выдала толстому свиноподобному хозяину столько нелестных слов, что он утратил дар речи и только пыхтел да грозно пучил глаза.
Фаина переехала к черту на кулички, в «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке. Смешная география – из Марселя в Альгамбру, из Альгамбры в Сан-Ремо и все это не выезжая из Москвы. У Фаины был дар подмечать смешное.
В «Сан-Ремо» она попала случайно, неожиданно. Остановила после своего «изгнания» из клопиной «Альгамбры» извозчика (не тащиться же на трамвае с чемоданами и шляпными коробками) и попросила отвезти ее в недорогие, но приличные меблированные комнаты. Тот и отвез, чтоб ему дожить до ста двадцати лет. Пусть и далековато, но приличная чистая комнатка с окном, выходящим во двор, здесь стоила двадцать пять копеек и в эту цену вдобавок полагался чай, сколько выпьешь, только со своим сахаром. И хозяйка, Луиза Эдвардовна, ревельская[11] немка, оказалась милой добродушной тетушкой. Встретила Фаину как родную, сразу усадила пить чай, ну а когда за чаем выяснилось, что Луиза Эдвардовна в юности тоже мечтала быть актрисой, то сдружились окончательно, настолько, что на Фаину повеяло чем-то домашним. Возможно, оттого, что Луиза Эдвардовна то и дело вставляла в речь немецкие фразы, напомнившие Фаине родной идиш.
То, пожалуй, была единственная удача, отпущенная судьбой Фаине за все время пребывания в Москве. Пора было признаваться себе в том, что из ее затеи ничего путного не вышло, и возвращаться домой, но Фаина тянула время, продолжая на что-то надеяться, сама не понимая на что, потому что от ее надежд остались одни осколки. К разбившимся надеждам добавилось разбитое сердце, потому что в Москве Фаину угораздило влюбиться. Какая же взрослая жизнь без любви?
После той неудачной встречи с Сулержицким Фаина больше не предпринимала попыток покорить Художественный театр. Какой смысл? Все равно ничего не выйдет, раз тебе дал от ворот поворот помощник самого Станиславского, только назойливой деревенщиной прослывешь. Но на спектакли ходить она продолжала, правда постепенно, из-за экономии, была вынуждена переместиться с передних рядов в задние. «Трех сестер» Фаина посмотрела трижды. И не столько потому, что великолепная чеховская пьеса была поставлена блестяще и дарила истинное наслаждение, сколько из-за актера Берсенева, игравшего подпоручика Родэ. Совсем не та роль, которая позволяет произвести впечатление на публику, но дело было не в роли, а в самом Берсеневе. У него только имя было скучное – Иван Николаевич, а все остальное… Пронзающий взгляд, чеканный классический профиль, волевой подбородок и обворожительная улыбка… Фаина впервые в жизни осознала, что в любовных романах пишут не выдумки, а сущую правду. Все прежние ее влюбленности были не чувством, а баловством, поэтому она и считала, что авторы романов выдумывают небывальщину, чтобы угодить впечатлительным читательницам. Нет! Ничего они не выдумывали. В самом деле можно трепетать при виде своего кумира, трепетать словно листочек на ветру. Можно таять от его взгляда. Можно жить одной любовью, забывая про обеды и ужины. Про завтраки забывать не получалось, потому что вырвавшись на волю из родительского дома, Фаина перестала завтракать. Только кофе пила, чашку или две. Поутру у нее никогда не было аппетита, но родители считали плотные завтраки залогом хорошего дня, поэтому волей-неволей приходилось запихивать в себя еду.