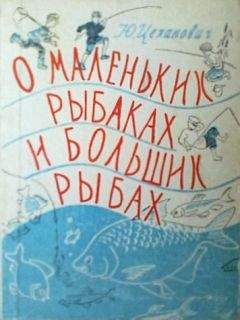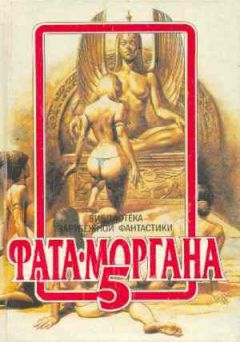(«За девочек благодарение небесам», из «Джиджи»)[9]
В ту ночь, когда мать встретилась с отцом, ее глаза сияли через всю комнату, как свет маяка. На ней было темно-голубое льняное платье с синим бархатным воротником, простое и элегантное, напоминавшее дикий ирис. «О боже, как я любила это платье. В то лето в Нью-Йорке я работала манекенщицей у модистки по имени Нэн Даскин. Нэн отдала мне это платье в конце сезона… сказала, что оно будто создано для меня. Так и было: оно изумительно подходило к моим глазам. В жизни я не носила такого красивого платья».
«Золотое платье было на тебе…»
«Я была в голубом в ту ночь, и стоял июнь».
(«Я хорошо это помню», из «Джиджи»)[10]
Джерри был почти вдвое ее старше, ему исполнился тридцать один год, и выглядел он, попросту говоря, высоким смуглым красавцем, хотя простого в нем не было ничего. Отец рисует собственный облик, увиденный глазами его любимой вымышленной семьи Глассов. Бадди Гласс, от чьего имени ведется повествование в повести «Симор: Введение», пишет, что глаза некоторых членов его семьи, в том числе и его собственные, «можно было бы, хотя это и выйдет дерзко, уподобить по цвету очень крепкому бульону из бычьих хвостов или назвать их грустными карими библейскими глазами». Я же, его дочь, не обладая дерзостью профессионального литератора и не испытывая смущения человека, который глядится в зеркало, скажу, что глаза у отца очень красивые, с густыми, длинными, черными ресницами — их унаследовали мой брат и, через поколение, — мой сын; тетеньки в парке, заглядывая в коляску, цокают языками и приговаривают: «Ну почему именно мальчишкам достаются такие чудесные длинные ресницы?»
Бадди, описывая или «представляя» глубоко им чтимого брата Симора, уже покойного, пишет так: «Волосы у него были жесткие, черные и довольно круто вились. Можно было бы сказать «курчавые», но это не совсем то слово… Они вызывали непреодолимое желание подергать их, и как их вечно дергали! Все младенцы в нашем семействе сразу вцеплялись в них, даже прежде, чем схватить Симора за нос, а нос у него был, даю слово, Выдающийся».
Когда на той вечеринке Джерри и Клэр взглянули друг на друга с разных концов комнаты, Клэр была ошеломлена[11].
На вечеринку она пришла не одна, да и он был со спутницей, так что «мы не могли как следует поговорить», рассказывала мама. Но всякий раз, как она поднимала глаза, их взгляды встречались, и Клэр краснела, боясь, что обнаруживает интерес чересчур откровенно. На следующий день Джерри позвонил хозяйке, поблагодарил ее и спросил, кто была эта красивая девушка в голубом платье. Та дала ему адрес Клэр в Шипли.
Через неделю Клэр получила от Джерри письмо. Жестоко мучаясь, писала ответ: боялась, что не выкажет достаточно ума перед настоящим писателем. Он звонил и писал весь 1950/51 учебный год. Из писем Клэр узнавала, что он много работает: заканчивает книгу. Клэр считает, что ради нее Джерри изменил название школы, в которой учится подружка Холдена, Джейн Галлахер, на Шипли. «Это вполне в его духе, но я слишком трепетала перед ним, слишком стеснялась, чтобы спросить».
Она также узнала, что Джерри серьезно раздумывает над тем, чтобы уйти в монастырь. Он подружился с Даесец Сузуки, делился он с нею в письмах, и теперь медитирует в центре дзэн-буддизма на Тысяче островов. На следующий год, когда «Над пропастью во ржи» вышла в свет, он внезапно переключился на Веданту[12] и часто занимался со Свами Нихиланандой в районе Восточных девяностых. Но встреча с Клэр уже состоялась.
«Правильно, — сказал Тедди. — Я встретил девушку и как-то отошел от медитаций». Он снял руки с подлокотников и засунул их под себя, словно желая согреть. «Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой, — я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что, не повстречай я эту девушку, мне бы не надо было воплощаться в американского мальчика».[13]
Когда Клэр на лето приехала из Шипли в Нью-Йорк, они стали видеться. Но вскоре встречи прервались, потому что оба отправились в Европу. Джерри уехал на Британские острова, просто чтобы убраться куда-нибудь из Америки на время публикации «Над пропастью во ржи». «Публиковаться — это чертовски неловко, — сказал он как-то коллеге-писателю. — Надо быть последним олухом, чтобы решиться на это; это все равно, что идти по Мэдисон-авеню со спущенными штанами».
А Клэр отправилась в Италию, к умирающему отцу. Ничего удивительного, что старость наконец одолела Роберта Лэнгдона Дугласа, или РАД, как его называли друзья. Ему уже почти стукнуло семьдесят, когда в 1933 году родилась Клэр, младшая из его пятнадцати (или около того) отпрысков. В справочнике Бэрона «Рыцари и пэры» значится девять из них. Сколько Клэр помнит отца, столько он страдал от маразма. Когда я девочкой умирала от смущения по любому поводу, мать рассказала мне, что однажды на званом обеде в их лондонском доме он вдруг гаркнул ей через весь стол своим зычным, хорошо поставленным голосом священника: «Клэр, ты сегодня ходила на горшок?»
В последние годы РАД стал еще более непредсказуемым, однако его решение провести конец жизни в Италии, а не в шотландском логове Черных Дугласов, было продуманным и взвешенным. Две расходящиеся тропки, какими он попеременно следовал всю свою долгую жизнь, привели его в Сан-Джироламо, монастырь и приют для престарелых священников, расположенный на холмах недалеко от Флоренции. Он был священником англиканской церкви и какое-то время имел приход в Оксфорде, Англия. Сменив нескольких жен, породив немалое количество детей, он счел за лучшее найти себе другое занятие и начал вторую, чрезвычайно успешную карьеру торговца произведениями искусства и историка искусств. «Благодаря твоему дедушке, — твердили мне, — ранние итальянские мастера, особенно сиенцы, заняли подобающее им место в истории искусств». РАД написал чудесную книжку о Фра Анджелико, и хотя умер он задолго до моего рождения, мне во время моих визитов к бабушке в Нью-Йорк было очень легко и приятно засыпать под смуглолицей Мадонной Джотто. Возможно, и РАД чувствовал то же самое: к концу жизни он обратился в католическую веру.
Когда он умер, в Сиене его, как местного героя, похоронили в городской стене. Мама рассказывала, что весь город участвовал в процессии — в пышных средневековых костюмах, под звуки труб, — чтобы отдать последний долг человеку, который своими трудами восстановил былую славу Сиены. Мать показала мне некролог, выпущенный городскими властями, размером два на три фута, вполне достойный образчик итальянского красноречия.