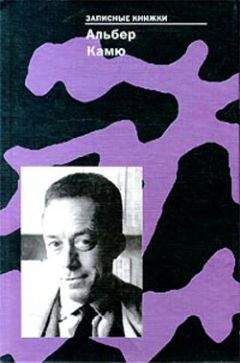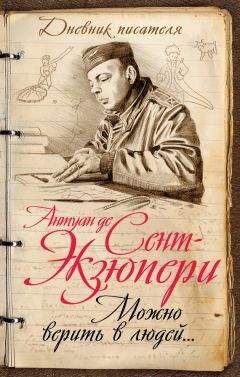Вчера. Освещенные солнцем набережные, арабские акробаты и сияющий порт. Можно подумать, что на прощанье этот край расцвел и решил одарить меня. Эта чудная зима искрится морозом и солнцем. Голубым морозом. Трезвое опьянение и улыбающаяся нищета – отчаянное мужество греческих стел, принимающих жизнь как она есть. Зачем мне писать и творить, любить и страдать? Утраченное мною в жизни, по сути, не самое главное. Все теряет смысл. Мне кажется, что перед лицом этого неба и исходящего от него жаркого света ни отчаяние, ни радость ничего не значат.
Долгая прогулка. Холмы на фоне моря. И ласковое солнце. Белые соцветия шиповника. Крупные, насыщенно-лиловые цветы. И возвращение, сладость женской дружбы. Серьезные и улыбающиеся лица молодых женщин. Улыбки, шутки, планы. Игра начинается вновь. И все делают вид, будто подчиняются ее правилам, с улыбкой принимая их на веру. Ни одной фальшивой ноты. Я связан с миром каждым моим движением, с людьми – всей моей благодарностью. С вершины холмов видно, как после недавних дождей под лучами солнца над землей поднимается туман. Даже спускаясь вниз по лесистому склону и погружаясь в это ватное марево, среди которого чернели деревья, я чувствовал, что этот чудесный день озарен солнцем. Доверие и дружба, солнце и белые домики, едва различимые оттенки. О, мгновения полного счастья, которые уже далеко и не могут рассеять меланхолию, одолевающую меня по вечерам; теперь они значат для меня не больше, чем улыбка молодой женщины или умный взгляд понимающего друга.
Время течет так быстро из-за отсутствия ориентиров. То же и с луной в зените и на горизонте. Годы юности тянутся так медленно потому, что они полны событий, годы старости бегут так стремительно оттого, что заранее предопределены. Отметить, например, что почти невозможно смотреть на стрелку часов в течение пяти минут – так это долго и безысходно.
Первые жаркие дни. Духота. Все живое в полном изнеможении. Когда день клонится к закату, над городом какой-то странный воздух. Звуки поднимаются и исчезают в вышине, как воздушные шары. Деревья и люди неподвижны. Мавританки болтают на террасах, ожидая, когда наступит вечер. В воздухе стоит запах жареного кофе. Нежная и безнадежная пора. Не к чему прижаться губами. Не перед кем броситься на колени в порыве благодарности.
Жара на набережных – страшная, изнуряющая, от нее перехватывает дыхание. Тяжелый запах гудрона дерет горло. Упадок сил и желание смерти. Вот подлинная атмосфера трагедии, а вовсе не ночь, как принято считать.
Солнце и смерть. Грузчик со сломанной ногой. Капли крови, тянущиеся по пылающим камням набережной. Похрустывание камешков. В кафе он рассказывает мне свою жизнь. Все разошлись, на столе остались шесть стаканов. Домик в пригороде. Жил один, возвращался к себе только под вечер, чтобы приготовить еду. Собака, кот, кошка, шестеро котят. У кошки нет молока. Котята умирают один за другим. Каждый вечер окоченевший дохлый котенок и нечистоты. А также смесь двух запахов: мочи и мертвечины. Вчера вечером (он потихоньку вытягивает руки, медленно отодвигая стаканы на край стола) подох последний котенок. Но мать сожрала половину. Значит, полкотенка! И как всегда нечистоты. Возле дома воет ветер. Где-то очень далеко играют на рояле. Он сидит среди развалин и нищеты. И весь смысл существования вдруг комом подступает к горлу. (Стаканы падают один за другим, а он все продолжает раздвигать руки.) Сидит так несколько часов, сотрясаясь от бешеной ярости, без слов, с мокрыми от мочи руками и думает о том, что пора варить обед. Все стаканы разбиты. А он улыбается. «Ничего, – успокаивает он хозяина, – мы за все заплатим»5.
Не отгораживаться от мира. Когда живешь на виду, нет опасности, что жизнь сложится неудачно. В любой ситуации, в несчастье, в разочарованиях, я прежде всего стараюсь восстановить контакты. И даже в печали своей я полон желания любить и испытываю упоение при одном только виде холма в вечерней дымке.
Прикоснуться к истине: прежде всего природа, потом искусство посвященных и мое собственное искусство, если я способен его создавать. А если нет – все же останутся и свет, и вода, и упоение, и влажные от желания губы.
Улыбка отчаяния. Безысходного, но тщетно пытающегося подчинить меня себе. Главное: не потерять себя и не потерять то сокровенное, что дремлет в мире.
Как красивы женщины в Алжире на склоне дня.
То, что жизнь сильнее всего, – истина, но она лежит в основе всех подлостей. Нужно открыто утверждать противоположное. И вот они уже вопят: я имморалист. Смысл: мне нужно определить для себя, что хорошо и что дурно. Признай же это, глупец. Мне тоже.
Другой недотепа: надо быть простым, надо быть самим собой, долой литературу – надо принимать жизнь и отдаваться ей. Да ведь мы только это и делаем. Если вы закоренели в своем отчаянии, поступайте так, как если бы вы не утратили надежды, – или убейте себя. Страдание не дает никаких прав.
Интеллектуал? Да. И никогда не отрекаться. Интеллектуал – тот, кто раздваивается. Это мне по душе. Мне приятно, что во мне два человека. «Могут ли они слиться воедино?» Практический вопрос. Надо попробовать. «Я презираю интеллект» на самом деле означает: «Я не в силах выносить свои сомнения».
Я предпочитаю жить с открытыми глазами.
Вспомним Грецию. Дух и чувство, любовь к выражению как доказательства упадка. Греческая скульптура приходит в упадок, когда появляются улыбка и взгляд. Итальянская живопись тоже, включая XVI век «колористов».
Парадокс – судьба грека, ставшего великим художником поневоле. Дорические Аполлоны6 восхитительны, потому что лишены выражения. Только живопись (к сожалению) привнесла выражение. – Но живопись «проходит», а шедевр остается.
Национальности возникают как знак распада. Едва нарушилось религиозное единство Священной Римской империи – национальности7. Восток хранит цельность.
Интернационализм пытается вернуть Западу его истинное значение и призвание. Но основа уже не христианская – греческая. Нынешний гуманизм: он лишь усугубляет пропасть между Востоком и Западом (вспомним Мальро8). Но он восстанавливает силу.
Тропинка настолько крутая, что всякий раз, поднимаясь к дому, ее приходится завоевывать.
Цивилизация заключается не в большей или меньшей утонченности. Но в сознании, общем для целого народа. И это сознание никогда не бывает утонченным. Наоборот, оно вполне здравое. Представлять цивилизацию творением элиты – значит отождествлять ее с культурой, меж тем как это совершенно разные вещи. Существует средиземноморская культура. Но существует также и средиземноморская цивилизация. С другой стороны, не надо путать цивилизацию и народ.