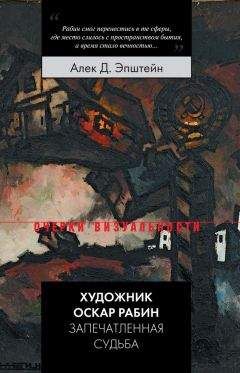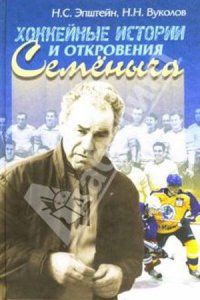Но хуже неприкаянности был голод. Продуктовых карточек у начинающего художника не было – все из-за отсутствия того же злосчастного паспорта. Начались и вызовы в милицию: «Предоставьте паспорт или уезжайте к себе в Москву». На этот раз тетя Тереза вспомнила об Августе Кирхенштейне, сказав своему племяннику: «Он был так влюблен в твою маму… Он поможет». Профессор-микробиолог был в то время председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Тетя позвонила в приемную профессора, который согласился принять сына той, которая так и не стала его женой. Впрочем, у Оскара эта встреча оставила неоднозначные воспоминания: «Когда я вошел в изношенном чуть ли не до дыр пальто матери в огромный кабинет Кирхенштейна, меня встретил тот же недобрый взгляд маленького профессора. Почти не разжимая губ, он признался, что, хоть я того и не стою, в память о моей матери он постарается мне помочь. Взял клочок бумаги и написал на нем несколько строк. Но прежде чем отдать бумажку, заявил: “Здесь, в Латвии, нам евреи не нужны. Мать твоя была латышкой, поэтому ты должен взять ее национальность”»12. Оскару было абсолютно все равно, к какой национальности быть причисленным, но вот когда А.М. Кирхенштейн потребовал, чтобы он сменил фамилию отца на девичью фамилию матери, юноша уперся: «С какой стати?» По его словам, А.М. Кирхенштейн «скривился», но протянул ему заветную бумажку. На другой день в милиции ему выдали паспорт с еврейской фамилией Рабин и надписью «латыш» в графе «национальность».
Однако на этом «паспортная сага» не закончилась… Побывав после победы в Москве, Оскар осознал, что жить ему там совершенно негде: Лида, приемная дочь его родителей, с которой он с тех пор никогда не встречался и даже не переписывался, вышла замуж, и в комнате, которую раньше они с ней делили на двоих, жила теперь со своим мужем. Оскар ночевал у знакомых, спал кое-как, иногда на полу. Его приняли в Суриковский институт и даже прописали в общежитие, но юноше не было выделено места, и ему стало негде жить. «От занятий, – как он вспоминает, – тошнило, с любовью дела тоже обстояли совсем плохо, я не умел ухаживать, был неловок, молчалив»13, часами простаивая под окном у нравившейся ему девушки, вызывая недоброжелательные пересуды соседок. О.Я. Рабин принял решение вернуться в Ригу, забыв выписаться в московской милиции. Приехав в Ригу и вспомнив об этом, он нарисовал в паспорте фальшивую печать о выписке из Москвы. В рижской милиции в его документ никто не стал всматриваться, и все сошло благополучно, но когда летом 1947 года О.Я. Рабин окончательно покинул Ригу и вернулся в Москву, то из страха, что поддельная печать в паспорте может его погубить, разорвал паспорт и остался вообще без всяких документов. Без паспорта он не мог получить продуктовых карточек, привезенные из Риги деньги очень скоро закончились, и художник остался без куска хлеба и без крыши над головой. Он ночевал в подъездах, на вокзалах, под лестницами, пока в начале 1948 года ему не удалось устроиться разнорабочим на стройку (а затем – грузчиком на одном из московских инструментальных заводов) и получить койку в рабочем общежитии. Новый паспорт он смог получить только в 1950 году…
О своем отношении к документам, сформированном еще в 1940-е годы, когда из-за их отсутствия он не имел ни своего угла, ни продуктовых карточек, Оскар Рабин не раз говорил в беседах с журналистами. «Пока мы живем на земле, нашу личность удостоверяют бумаги. Но в Советском Союзе этой бумаге придавалось едва ли не сакральное значение. Столичная прописка разграничивала граждан на достойных и недостойных. У остальных не было даже Юрьева дня», – говорил он в 2008 году14. «В Союзе просто за паспортом стояла судьба всего народа. Господи, там и прописка, и национальность, и не человек ты, если этой бумажки нет. Бог знает что за этим стояло всегда, и это как-то передавалось. Ведь когда я уезжал, мне разрешили взять всего семь работ, но вот мой “Паспорт” не разрешили вывезти, категорически сказали: “Нет”. Почему? Ничего там не написано антисоветского, но они сами поняли, что это не просто бумажка», – вспоминал он тридцать пять лет спустя15. Работа «Паспорт» существует в двух версиях, созданных с интервалом в восемь лет: в 1964 и 1972 годах. Они практически идентичны, но во втором варианте добавлена строка «место смерти», в реальном документе, разумеется, не существующая. Данный художником ответ («под забором?.. в Израиле?») свидетельствует о том глубочайшем чувстве неуверенности в завтрашнем дне, в котором он пребывал до «бульдозерной» выставки. Картина не оказалась пророческой: Оскар Рабин явно не закончит свои дни в нищете и безвестности «под забором», что же касается Израиля, то в этой стране он так никогда и не побывал даже туристом; к сожалению, там не было и ни одной его выставки.
Рабин не философ, и, как бы его ни упрекали в 1960—1970-е годы в искажении действительности, на самом деле в истории искусства советского времени трудно найти художника, тематика и эстетика произведений которого была бы настолько реалистичной и автобиографичной, как это было у Оскара Рабина. Его отношение к документам сформировалось не под влиянием тех или иных мыслителей-антиэтатистов (он едва ли читал хоть кого-то из них), но под воздействием неприкаянности и голода, вызванных отсутствием «бумажек». «Пока мы живем на земле, нашу личность удостоверяют бумаги», но для Оскара Рабина значимы только те из них, которые определяли его жизнь в годы отрочества и юности. «Когда я получил французское гражданство, то думал – вот и тут я напишу паспорт. И знаете, ничего не получилось, – рассказывал он в одном интервью. – Потому что французский паспорт – просто формальная бумажка, за которой ничего не стоит – ни трагедии человеческой, ни притеснений. Коли она у тебя есть, ты просто гражданин Франции и ты все имеешь. И такую бумажку мне было просто неинтересно рисовать…»16 «У меня два паспорта, если говорить о документах, а на картинах – только русский, советский. Пытался рисовать французский паспорт, но ничего не получается – едва ли не сокрушался он в другом. – Почему? За ним не стоит ничего. Бумажка – и больше ничего. А за советским – судьба всего народа. Без этой казенной бумажки я был словно преступник. Тема драматическая, благодарная…»17
Как представляется, образованные искусствоведы искали ключи к пониманию творчества О.Я. Рабина не совсем там, где их стоило бы искать: они то утверждали, что его живопись «зиждется на заостренной почти до карикатуры эстетике авангардистов из “Бубнового валета”»18, то декларировали, что «его искусство – это такой “Бубновый валет”, лишенный его буйной радости, мрачный “Бубновый валет”»19. Если к картинам О.Я. Рабина и можно протянуть те или иные связующие нити от произведений российских художников, то от полотен А.В. Куприна или Р.Р. Фалька, а не от т.н. «соцреалистов», К.С. Малевича или других адептов абстрактного искусства. Но и эти связи представляются надуманными: если бы О.Я. Рабин искал, под чье «передовое» влияние попасть, его искусство не было бы таким внутренне целостным на протяжении вот уже полувека, за которые он утвердился именно как самобытный, ни на кого не похожий художник, раскрывающий в своих произведениях не эстетические принципы, а собственную судьбу в контексте судьбы своего круга и своего поколения. В беседе с Андреем Ерофеевым Оскар Рабин обозначил это предельно четко, и, думается, что эти слова могут быть вынесены в качестве эпиграфа, объясняющего сущностные истоки творчества художника: «После смерти Сталина жизнь, пробив асфальт и вылезая наружу, внешними формами и эстетическими направлениями не занималась. Не до этого было. Важнее всего было осознать и понять свою человеческую личность, свою личную эстетику, личную способность к творческому выражению – а в какой форме, к какому направлению это можно будет отнести, было несущественно. Любая форма, которая пришлась под руку, использовалась. Нам надо было прокричать свое, а что под руку подвертывалось, абстрактный ли, экспрессионистический ли прием, какие материалы, это было вторично»20. Рабину не была важна форма, он никогда не рисовал «композиций № 7» и не стремился подражать геометрическому абстракционизму, уделяя все внимание своему «чувству реальности» и запечатлевая на своих полотнах то, что составляло окружавший его мир. Какова бы ни была его палитра, какие бы художественные течения и доктрины ни вспоминались на его выставках, Оскар Рабин – подлинный и последовательный социальный реалист, который пишет лишь то, что было пережито им. Он рисует на своих портретах людей, бывших ему родными и близкими, и тот паспорт, отсутствие которого едва не стоило ему жизни.