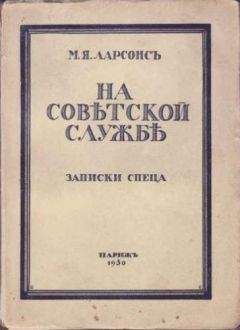По дороге к вокзалу мы заговорили о политическом положении и я откровенно высказал ему свое негодование по поводу бесчисленных совершенных Чекой политических убийств. Я спросил Крестинского, как долго это будет продолжаться, и имеет ли советское правительство намерение совершенно уничтожить всю буржуазию, независимо от того, участвовало ли данное лицо активно в борьбе с советским режимом или же, не интересуясь политикой, ведет образ жизни мирного обывателя. Крестинский категорически протестовал против подобного предположения и ответил, что Чека состоит не из убийц, а из политически убежденных коммунистов, которые исключительно против тех ведут беспощадную борьбу, кто становится на пути советской власти. Никто не думает о том, чтобы преследовать буржуазию или ее, как таковую, уничтожать. Все это сказки, распространяемые врагами советского строя.
Я заговорил с ним об излюбленном методе Чеки арестовывать совершенно невинных и стоящих в стороне от политической борьбы людей, бросать их в тюрьмы и держать их там в качестве заложников, обреченных на смерть в случае убийства какого-либо коммуниста. Я сказал, что для этой подлой системы заложничества не существует никакого оправдания ни с точки зрения государственного смысла, ни с точки зрения запугивания, и подчеркнул, что с помощью этого страшного террора нельзя устранить политических убийств коммунистических вождей. Как раз наоборот, красный террор может вызвать только ответную волну террора с другой стороны. Крестинский возразил, что теперешний террор — тяжкая необходимость и представляет собой короткую, преходящую фазу большевистской революции. Необходимо всеми средствами сломить громадное сопротивление для того, чтобы советское правительство, по низложении всех своих врагов, могло наконец приступить в выполнению своей положительной программы.
Мы говорили совершенно откровенно, так как Крестинского я не боялся. Наоборот, я считал своим долгом высказать свое возмущение видному члену советского правительства относительно современного положения вещей, возмущение, разделяемое всей страной. Возражения Крестинского не могли меня убедить. Тон, в котором они высказывались, не производил на меня впечатления, что Крестинский сам одобрял эти чудовищные факты. Наоборот, его возражения мне казались лишь официальной защитой коммунистической тактики борьбы того времени.
Между тем мы доехали до вокзала. Крестинский ехал в Петербург в великолепном вагоне, бывшем салон-вагоне Шипова, директора Государственного банка до революции. Кроме меня и Крестинского был еще третий с нами, уполномоченный Уральской области, тов. Сыромолотов. Сыромолотов был личным другом Крестинского, значительно старше его, ему тогда по меньшей мере было 50 лет. Мы сидели в вагоне, в прекрасно устроенном салоне и беседовали. Крестинский познакомил меня с Сыромолотовым, и разговор перешел на Урал. Я сказал Сыромолотову, что я в течение последних лет работал в правлении крупных Уральских горнопромышленных акционерных обществ, а именно до 1915 г. в Обществе Сысертского Горного Округа, а затем до революции в Обществе Лысьвенского Горного Округа (т. н. Шуваловском Обществе). Я сказал ему также, что я несколько раз бывал в Екатеринбурге и на горных промыслах, и между прочим осведомился о некоторых людях, с которыми познакомился на Урале, между прочим о некоем Александре Михайловиче Мокроносове.
Мокроносов был Главноуправляющий Сысертского Горного Округа и жил постоянно в Екатеринбурге. Горные промысла находились от Екатеринбурга на расстоянии нескольких часов езды по железной дороге. Мокроносов был человек лет 60-ти, крестьянин родом из деревни Сысерть, отец которого служил еще в качестве крепостного (т. н. поссессионно-обязанного) на Сысертских заводах. Мокроносов не получил никакого образования и едва умел правильно читать и писать по русски. Но он был человек железной трудоспособности, работал с 12-ти лет в лесах и на заводах Сысертского Горного Округа и в конце — концов добился положения Управляющего Округом.
Я спросил Сыромолотова, как поживает Мокроносов?
«Мокроносов? Что ж, он весь вышел!»
В первый момент я не понял, что он хотел этим сказать, и пристально посмотрел на него.
Тогда Сыромолотов резко добавил:
«Мокроносов расстрелян в числе других девятнадцати заложников, которых мы взяли в Екатеринбурге. Что, жалко Вам его? Он был самый отчаянный кулак, которого можно только себе представить».
Я ему ответил:
«Конечно, мне жалко его, как человека, так как я не понимаю, как можно расстреливать людей, как заложников».
Сыромолотов ответил легким смешком:
«На войне, как на войне, а мы сейчас на войне».
Я замолк и предался своим размышлениям. Крестинский также молчал. Было бы бесцельно затевать с тов. Сыромолотовым политический спор о ценности человеческой жизни и об убийстве заложников.
После моего отъезда из России 2 марта 1919 г. я встретился с Крестинским лишь в конце мая 1921 г. Крестинский приехал в Берлин, чтобы посоветоваться относительно своей все усиливающейся близорукости и слабости зрения с выдающимся немецким глазным врачом. Я был с ним несколько раз у врача в Берлине, а затем навещал его в Киссингене, где он лечился в санатории.
Я подробно рассказал Крестинскому обо всем мной пережитом со времени моего отъезда из России, о моем пребывании в Швеции в качестве заместителя главноуполномоченного Русской Железнодорожной Миссии в Стокгольме. Крестинский слушал всегда очень внимательно и интересовался каждой деталью.
Крестинский издавна отличался необыкновенной памятью на цифры и факты, относящиеся, как к политической жизни, так в особенности ко всем событиям из жизни окружающих его людей. Крестинского многие считают живым архивом коммунистической партии. В качестве Генерального Секретаря коммунистической партии он знал биографию каждого сколько-нибудь заметного коммуниста, даже из самой отдаленной губернии.
Гуляя с ним по Киссингену, мы прошли однажды мимо сапожного магазина. Крестинский зашел туда и попросил башмаки для своей двухлетней дочки. В маленьком магазине были башмаки для двухлетних, трех- четырехлетних и детей более старшего возраста. Когда мы вышли, я сказал ему:
«Вас не удивляет, что в маленьком баварском городке, в простом башмачном магазине, через 2½ года по окончании войны можно найти башмаки для детей всякого возраста, а в Москве нет башмаков даже и для взрослых? Не наводит ли это обстоятельство Вас на размышления? Находите ли Вы действительно рациональным совершенное запрещение внутренней частной торговли, даже розничной, которая охватывает только незначительные интересы? Считаете ли Вы необходимым, чтобы детские башмаки, игрушки, масло и колбаса продавались только в лавках государственных организаций?»