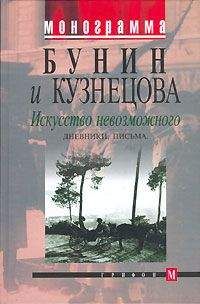В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать «членом их семьи».
Кузнецова оказалась среди «подопечных» Бунина, молодых литераторов (Н. Рощин, а позднее — Л. Ф. Зуров, 1902–1971). И все же мы не можем согласиться с Одоевцевой до конца. Появление Кузнецовой, безусловно, нарушило семейное равновесие Буниных; атмосфера нервности, скрытой напряженности надолго воцарилась в их доме.
Отношения Бунина и Кузнецовой надолго стали предметом пересудов русской колонии Парижа. В своем обычном, светлом и юмористическом духе упоминал об этом в письме ко мне от 24 февраля 1964 года Б. К. Зайцев, рассказывая о своей дочери Наталье Борисовне: «Раз были мы с ней вдвоем в театре (довольно давно, 7 лет я вообще нигде не бываю, читаю вслух больной жене и ухаживаю за ней). Так вот тогда дама одна увидала меня с Наташенькой в театре и говорит: «Хороши наши писатели! Нечего сказать. Бунин завел себе Галину, а этот вон какую подцепил». О том, как переживала все это время В. Н. Муромцева-Бунина, свидетельствует А. Бахрах: «Удочерение» (так этот акт официально назывался при поездке в Стокгольм за получением шведской премии) сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее внедрение в бунинскую квартирку было, конечно, тяжелым ударом по самолюбию Веры Николаевны, по ее психике. Ей надо было со всем порвать или все принять — другого выхода у нее не было»[3]. Она замкнулась, стала искать утешения в вере, в Боге.
Между тем постепенно чувство Кузнецовой к Бунину менялось, восхищенное отношение к замечательному писателю нарастало, но человеческое, женское — таяло. Однажды, когда Бунин получил очередную хвалебную статью о себе, она записала: «Странно, что когда Иван Алексеевич читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное, это кажется плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце»[4].
Слова эти оказались провидческими.
Кузнецова покинула Бунина в зените его славы, после присуждения ему Нобелевской премии. На обратном пути из Стокгольма в декабре 1933 года Бунин (вместе с которым были Вера Николаевна и Кузнецова) навестил в Берлине философа и литературного критика Федора Степуна. И. Одоевцева писала Н. П. Смирнову 12 апреля 1970 года: «В дороге Галина простудилась. Обеспокоенный Бунин <…> просил Маргу (сестра Ф. Степуна, оперная певица. — О. М.) свозить ее к доктору». Встреча Кузнецовой с Маргой Степун оказалась роковой, Галина покинула Бунина. «Бунин, — писала Одоевцева, — обожавший Галину, чуть не сошел с ума от горя и возмущения. В продолжение двух лет — о чем они обе мне рассказывали — он ежедневно посылал ей письмо…»
Кузнецова, однако, довольно скоро приехала к Буниным в Грас и поселилась у них вместе с М. Степун, растравляя и без того горько страдавшего Бунина. Он еще пытается спасти положение. 8 марта 1935 года заносит в дневник: «Разговор с Г[алиной]. Я ей: «Наша душевная близость кончена». И ухом не повела». В это время на вилле «Жаннета», которую снимал Бунин, жили еще, помимо Кузнецовой и «Марги» (М. Степун), молодые писатели Рощин и Зуров. 6 июля 1935 года Бунин пишет: «Вчера были в Ницце — я, Рощин, Марга и Г[алина]… Без конца длится страшно тяжелое для меня время». Вера Николаевна чутко улавливает его состояние. Она, очевидно (о чем уже говорилось), не так уж искренне «поверила» в чисто литературные отношения Бунина и Г. Кузнецовой, как утверждала И. Одоевцева. А теперь, после разрыва, сама переживает и волнуется за него. 26 апреля 1936 года отмечает в своем дневнике: «Все мои старания примирить Яна с создавшимся положением оказались тщетными»[5].
Да и как мог он примириться! Терзания длятся у него годами, непрерывно, люто. 22 апреля 1936 года горько пишет: «Шел по набережн[ой], вдруг остановился: «да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность». 7 июня того же года: «Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, — душевнобольной». С маниакальностью впервые влюбленного возвращается он к одному и тому же. 20 апреля 1940 года: «Что вышло из Г[алины]! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм[ысленная] жизнь! Вдруг вспомнилось — «бал писателей» в январе 27 года, приревновала к Одоев[цевой]. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках одна в свой отельчик».
После вторжения Гитлера во Францию оставшиеся на вилле «Жаннета» Г. Кузнецова, М. Степун, Л. Зуров, а также поселившийся там литератор Александр Бахрах переходят окончательно на иждивение Бунина, который сам едва перебивается и с печальной иронией пишет в дневнике 11 марта 1941 года: «Сейчас десять минут двенадцатого, а Г[алина] и М[арга] и Бахрах только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 фр[анков] «. Но если бы дело было только в скудости средств, хотя и это мучает: «Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, — хоть шаром покати!» (23 февраля 1941 года). Или вот еще: «Дикая моя жизнь, дикие сожители М[арга], Г[алина] — что-то невообразимое» (26 февраля 1941 года). Это самое страшное: «Во многих смыслах я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу» (21 апреля 1940 года).
Любовь прошла, оставив чувство безнадежности, почти отчаяния. 18 апреля 1942 года, как бы подытоживая пережитое, Бунин записал в дневнике: «Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор отравляет! 15 лет!»
Но, быть может, и не стоило уделять столько места отношениям Бунина и Галины Кузнецовой?
Было, однако, одно веское обстоятельство, придающее этой поздней бунинской страсти особый характер. Галина Кузнецова была душевно близка Бунину (его же определение), понимала его как художника, оставила во многих отношениях замечательный «Грасский дневник», где проникновенно показала Бунина именно как творца, художника, писателя. Кроме того, мы ей обязаны многими страницами «Жизни Арсеньева», в том числе и образу той Лики, какой она выведена в романе.