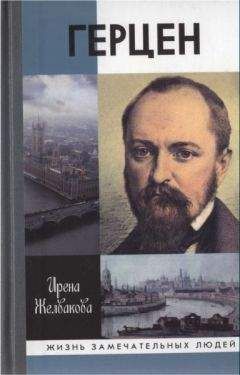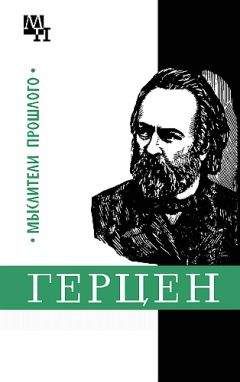Разгадку этих отношений пытаемся найти и в сломе яковлевского характера после войны 1812 года (по-видимому, опала сделала его другим человеком), и в принадлежности к Мальтийскому ордену, предписывавшему своим кавалерам верность уставу, обетам и некоторые ограничения, часто препятствовавшие браку. Наконец, истина могла открыться в знании обстоятельств домашней жизни Генриетты Луизы в родном Штутгарте. Давно кочевали по мемуарной литературе сведения о несчастной доле юной Луизы (названной по-русски Луизой Ивановной), что и подтвердилось недавно красноречивыми документами, извлеченными по нашей просьбе из метрической книги Штутгарта.
Проживало в уютном немецком городке с кирхой на торговой площади, с мелодичным перезвоном соборных часов, предварявшим службы, многочисленное и не слишком зажиточное семейство секретаря казенной палаты Готлоба Фридриха и Вильгельмины Регины Эрпф или, в написании Герцена, — Эрпфин (13 октября 1772 года — 22 мая 1818 года). В 1805 году, когда старшей, Луизе, не исполнилось и одиннадцати (родилась 27 июня 1795 года), семья лишилась пятидесятилетнего кормильца.
Новый источник уточнял детали, устранял разночтения в датах, а главное, позволял восстановить родословное древо герценовских предков по материнской линии. Дед Луизы со стороны матери — Георг Фридрих Эрпф — посыльный в медицинском заведении, бабка — Маргарита Розина, «дочь Михаэля Вакера, господина конюха», дед Луизы по линии отца Иозеф Гааг — портной из Людвигсбурга. Из документа открывается, что Генриетта Луиза была старшей не из трех, как считалось ранее, а из девяти детей (восьмой была Вильгельмина Регина Луиза, которую, очевидно, часто путают с ее старшей сестрой, ошибочно добавляя к двум ее именам и третье — Вильгельмина). Причем их многодетная мамаша, будучи уже пять лет вдовой, на сороковом году жизни родила девятого ребенка (девочку Иоганну Доротею Фредерику), что случилось 12 июня 1811 года, накануне стремительного «бегства» Луизы в Россию, где буквально через девять месяцев она и сама стала матерью. Впрочем, об атмосфере, сложившейся в добропорядочном немецком семействе, можно только догадываться…
Родословие Ивана Яковлева, уходящее в глубь веков, к потомкам прусского и аландского короля Вейдевута, не идет ни в какое сравнение с материнской линией. Здесь всплывают фигуры исторические. Сам Александр Невский издревле осеняет сей достопочтенный род, давший отечеству воевод, бояр и окольничих, верой и правдой послуживших престолу и не избегших монарших милостей.
Фамилия Яковлевых «начало свое восприяла», как выписано в древнем прусском гербовнике, от Андрея Ивановича по прозванию Кобыла. Король Вейдевут разделил свое царство двенадцати сыновьям. Потомок его четвертого сына, утомленный в бранях и противостоянии врагам и варварам «и быв ими побежден, выехал с сыном своим и со множеством подданных в Россию к великому князю Александру Ярославичу, и по восприятии святого крещения дано ему имя Иоанн, а сыну Андрей Иванович, прозванный по просторечию Кобыла, от коего пошли Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и другие многие роды. <…> У сего Андрея Ивановича был правнук Яков Захарьич, находящийся при царе Иоанне Васильевиче боярином, наместником в Нове-городе и главным полковым воеводою». Все это яковлевская ветвь. Присутствие в родословии имени Захарий (так в старинном родословии упомянуты и отец Якова — Захарий, бывший при дворе Василия III Темного в знатных чинах, и Захарий Петрович, живший в эпоху Ивана Васильевича Грозного) дало начало и ветви Захарьиных, к слову сказать, в дальнейшем этой фамилией Яковлевы не скупились награждать своих незаконнорожденных детей. Обращение к корневой системе этого знатного, хоть и не титулованного рода, не оставляет сомнений в избранности фамилии. Торжественный герб на пергаменте, скрепленный сургучной печатью, с красноречивым девизом «Deus Honor et Gloria»[7] — тому подтверждение.
Но выберемся в более приближенные исторические времена, заинтересовавшие Герцена-мемуариста, чтобы представить читателю имена, личности и родство его персонажей.
Алексей Александрович Яковлев (1726–1781), действительный статский советник, занимавший немало важных постов, приходился Герцену дедом. В браке с Натальей Борисовной Мещерской было у них три дочери и четверо сыновей (которые по малолетству, лишившись рано родителей, воспитывались их теткой, княжной Анной Борисовной Мещерской): Петр (1760–1813), дядя Герцена и отец Татьяны Петровны Пассек, член военной коллегии; Александр (1762–1825), «старший братец», дядя Герцена и отец его будущей жены Натальи Захарьиной, камергер и обер-прокурор Синода; Лев (1764–1839), «Сенатор», действительно сенатор и дипломат, дядя Герцена; Иван (1767–1846), отец Герцена, лейб-гвардии капитан, вышедший в отставку в том же чине. Из трех теток Герцена — средняя, Екатерина, рано умерла; старшая — Марья (1755–1847), вышла замуж за Федора Сергеевича Хованского, а младшая — Елизавета (1763–1822), стала женой Павла Ивановича Голохвастова.
Генеалогическое древо, где сухо обозначены ветви родства, буквально расцветает в описаниях Герцена. Многие из его персонажей появляются на первых же страницах «Былого и дум» в отсвете московского пожара. И, прежде всего, это его отец.
Яростного «поклонника приличий и строжайшего этикета» 7 сентября неожиданно встречаем в тронной зале Кремлевского дворца, представшим перед императором французов: «В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенными для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой». Сей нонсенс — следствие многодневных скитаний яковлевского семейства, оставшегося на улице без пищи и крова.
Покинуть Первопрестольную вместе с семьей младшей сестры, как было ранее договорено, Яковлеву не удалось ни 1-го, ни 2 сентября. Москва опустела. Иван Алексеевич, предупрежденный об опасности, твердо решил ехать, как большинство патриотически настроенных москвичей. Хлопоты и уговоры мужа Елизаветы ни к чему не привели. Павел Иванович сильно противился отъезду: лучше претерпеть от французов «в теплой своей горнице», чем от разбойных людей на большой дороге. Вскоре лишились и каменной «горницы» Голохвастовых на Тверском бульваре, и флигеля тетки Анны Борисовны Мещерской на Малой Бронной. Несчастья следовали одно за другим.
Появление Яковлева в Кремле и его свободный диалог с императором, кажущийся чем-то из ряда вон выходящим, вполне соответствовали классовому статусу Ивана Алексеевича. «Светский человек accompli[8]» и по образу жизни, и по происхождению, и высокому понятию чести, Яковлев во время своих многолетних странствий обзавелся множеством знакомств и нужных связей. «Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил». Воспитанный французским гувернером, безмерно любивший Париж, этот красавец-мужчина и завидный кавалер, в молодости еще танцевавший англезы на балах у самой императрицы Екатерины II, был принят в самых блестящих салонах и знатных домах французской наполеоновской столицы.