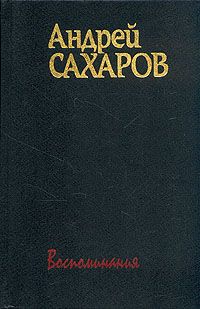Радость, что освобождено более ста человек, — и сразу глубокое разочарование от унизительных требований каких-то (пусть формальных) покаяний.[8] В чем? И все застопорилось. Ведь было официально объявлено, что будут освобождены сто пятьдесят человек и потом еще столько же. Где же они? И когда наступит это «потом»?
А бесчисленные телеграммы — то в ссылку какому-нибудь официальному лицу, где плохо с кем-то из осужденных, то главврачам психбольниц, то высокому начальству о больном заключенном, которого давно пора освободить, но дело стоит на мертвой точке. И так каждый день: кто-то приходит, куда-то пишем, что-то надо делать, может, даже совершить какой-нибудь «культурный» поход — в кино, в концерт или в театр. Нормальная человеческая жизнь почему-то становится совсем недоступной нам.
А венец моих личных мучений — это телефонное общение с московскими корреспондентами. Андрей совсем не переносит такие нагрузки, и оно целиком ложится на меня. Когда им сообщаешь об освобожденных, они еще способны понять. Но как только об аресте, голодовке, тяжелобольных, погибающих в лагере, о психбольницах и положении их узников — обязательно на радио все звучит неверно, да еще с пространным комментарием, в котором зачастую мне приписываются слова, которых я сроду не говорила. Я снова на телефоне, снова слушаю радио и часто снова слышу совсем не то. Постоянный вопрос: где, на каком этапе все принимает вид, только отдаленно напоминающий переданную информацию? Я никогда не могла получить на него ответа. И изо дня в день это общение по телефонам — как разговор глухих. Я им про наши волнения за кого-то, а они мне встречный вопрос «про перестройку». «Да не знаю я ничего про нее, кроме того, что вышли на экран несколько фильмов, где-то идут какие-то «очень смелые» пьесы, а в журналах и газетах столько интересного, почти как в лучшие годы самиздата». И главное: «Сто человек дома (в том числе и мы)». — «Мало это или много?» — «Мне? Мало, плохо, мне надо, чтобы все узники совести были дома, у для страны позорно, если в ней объявлена перестройка и время гордо называется революционным. А насчет фильмов и чтения мне достаточно, я и так не успеваю ни прочесть, ни посмотреть, и жду не расширения круга чтения, а того, что было уже обещано: пересмотра уголовного законодательства и отмены статей 70-й и 190-й.»— «Чего-о-о?» — удивляются на том конце провода.
И, так вот всласть наговорившись с кем-нибудь из корров, я, как цепная собака, бросаюсь на друзей, появляющихся в доме с «новостями» из радио, и с трудом удерживаю себя, чтобы не облаять заодно и незнакомых. И с тоской вспоминаю бездумные, кажущиеся бессмысленными долгие горьковские вечера у телевизора — наш отдых и совершенная близость, какую бы чушь мы ни смотрели. Я для приличия (а то стыдно перед самой собой) что-нибудь шью-штопаю совсем ненужное. Таких вечеров в Москве уже нет и не будет. Мы даже умудряемся пропускать (в доме люди) какие-то абсолютно обязательные вещи.
Ну вот, я и нажаловалась на наше освобождение. Но на самом деле — это все же перекос. После возвращения в Москву я перестала замирать от ужаса при мысли, что я буду делать, если у Андрея станет плохо с сердцем, или мозговые спазмы, или еще что-нибудь, столь же далекое от педиатрии,[9] как его возраст от счета на дни у новорожденного. Он говорит, что испытывал то же самое в отношении меня. Ведь мы зареклись от горьковской медицины. И не этот ли зарок продлил нам жизнь?
Раньше, каждый раз выходя на улицу, я внутренне сжималась (иногда до реальных сердечных спазмов, и мне нужен был нитроглицерин) только от мысли, что я опять как препарат на предметном стекле, что меня снимают и будут разглядывать и демонстрировать всему миру[10] и я ничего не могу сделать против этого, ну разве только запереть себя в четырех стенах. (Позднее добавление: оказывается, и в стенах снимали, как? — не знаю; но миру показывали кадры, где я полуодетая что-то делаю на кухне.) Отсутствие этого киномучения — тоже глоток свободы.
Месяцами мы были насильственно разлучены и мучились от незнания того, что происходит с другим из нас. Месяцами не сказали слова кому-нибудь, кроме как друг другу. Правда, в эти годы мы выяснили свою абсолютную совместимость. Андрей шутил, что нас теперь можно запустить в космос.
Возвращенная возможность общения с людьми — радость, ничем не заменимая. Правда, иногда его столько, что уже не получается контакта и все общение — это скольжение по поверхности. Иногда даже думаешь, что общения столько, что надо бы, надо чуть-чуть поменьше — чтоб не переедать. Сколько друзей, сколько людей с Запада прошли за эти месяцы через наш дом — невозможно сказать: счет идет на сотни. Сколько я ватрушек напекла и сколько заварила чаю! И сколько удовольствия — кормить, поить друзей! Теперь на основании вполне достаточного статистического материала могу твердо сказать, что в мире что-то изменилось: Запад стал предпочитать чай, а кофе — это так, баловство для друзей!
По ночам, когда уже перемыта посуда, и голова раскалывается от разговоров, в которых бесконечные «про» и «контра» (ох, этот московский разговор ночью на кухне, высшая точка духовной жизни столицы и предмет зависти всех перебывавших на этих кухнях иностранцев!), я слабо вякаю Андрею, что надо бы вести дневник (кражи дневников и архивов отвадили Андрея от этой потребности), ведь не упомнишь всех и все разговоры, но вижу, как он шатается от усталости, и замолкаю.
Теперь может быть решен вопрос о возвращении мамы. Семь лет она прожила в США в беспокойстве за нас и тревоге от неустроенности и неполадок в жизни детей. И не дома, и не в гостях, и это в её возрасте! Стала ли я ближе детям? Доступней стал телефон, а он, как известно, враг писем, они совсем перестали нам писать, а я им. И их жизнь так же непостижима для меня, хотя и был шестимесячный период моего соприсутствия в ней. Но было счастье — чудо приезда Алеши через девять лет,[11] трудные и радостные дни с ним. Собственно, этих десяти дней как не было, нам на общение оставались только ночи. А он был такой усталый, напряженный, глаза внимательные, но несчастливые. Видел ли это кто-нибудь, кроме меня?
Мне всегда эмиграция казалась невероятно трудным процессом, на грани человеческих сил. И уж если эмигрировать, то не для того, чтобы «спасать Россию», а для себя. Моим детям такое было невозможно в силу нашей (Андреевой) судьбы и — если мне простят такое слово — миссии, их полной завязанности с этим. Каждая моя поездка на Запад (общения были и с теми, у кого удачно сложилась судьба там, и у кого не сложилась) эту мысль только укрепляла. Были ли мы правы, настояв на эмиграции детей? Вспоминаю слова Генриха Бёлля. Он в разговоре с Андреем сказал (речь шла о немцах, выехавших из СССР в ФРГ): «У нас жить трудно, у вас невозможно».