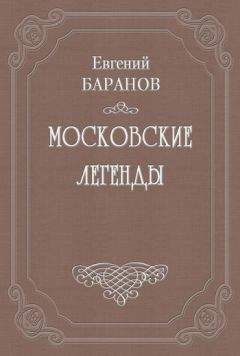Ну, царя не ослушаешься: хочешь-не хочешь, а венчайся. Вот и обвенчался и стал жить с ней по-настоящему.
Понятно, какое уж там было житье. И в люди показаться с черной сатаной – одна срамота. И грызлись они каждый день, как собаки, и бил он ее здорово. Ну, она-то не сдавалась: живущие они, эти арапки треклятые, и злые, как черти. И она тоже огрызалась хорошо: как схватит каталку, так ему впору бежать.
Ну, однако, как плохо ни жили, а все через девять месяцев она родила. Все так и думали: обязательно она родит арапченка или девочку-арапку, а родила она белого мальчика. И все очень удивлялись.
– Значит, говорят, мужская кровь над женской кровью перевес имеет.
И царь очень доволен остался.
– Это, говорит, похвально, что мужская кровь победила. Определить, говорит, мальчика на казенный счет. Самых лучших учителей к нему приставить – профессоров.
Ну уж, конечно, и папашу не забыл: и чином наградил, и жалованья прибавил. Вот после этого выкрест этот, немчура и заблистал, а то ведь совсем заплевали человека. Вот тебе и сатана черная. Она, эта сатана, после такой срамоты ему возвышение придала.
Ну, отцу хорошо, а сыну нешто плохо? И сыну тоже хорошо было. Как он подрос, стали его учить, а царь только одно и твердит учителям:
– Учите мальчика хорошенько…
А этот мальчик вот какой был: ему только десятый год пошел, а он уж зашагал: всю профессорскую науку одолел, да еще сам стал задавать учителям задачи. Такую задачу задаст, что профессора только рот разинут. Смотрят на него, и только глазами хлоп-хлоп. И так, и сяк – ничего у них не выходит… В своих книгах ищут, ищут – ничего нет подходящего. Что тут делать? Бегут к царю жаловаться на Пушкина… Ну, не жаловаться – какая тут может быть жалоба? А так – пошли доложить насчет учения Пушкина. Вот приходят и говорят:
– Пушкина, говорят, больше нечему учить, он всю нашу науку превзошел.
Царь и удивляется.
– Как же это, говорит, так? Ведь он еще мальчик.
А профессора говорят:
– Это действительно верно, что он мальчик, а только по уму он и большого превышает. У него, говорят, такой талан. Он, говорят, от природы такой умный.
– А-а, – говорит царь, – это дело другого рода, это особая статья, Ну, говорит, ежели он от природы такой, так и отступитесь от него. Пусть, говорит, он один до всего доходит. А то, говорит, вы еще испортите его, разобьете его мысли.
Профессора и отступились: раз приказ царский, тут уже не станешь растабарывать. Вот они и отступились от Пушкина, отошли.
– Ну-ка, думают, как он без нас станет учиться?
А он как пошел, как пошел! Все предметы постиг. Кроме русского, семь языков знал! А как подрос, пошло у него занятие – до всего докапывался, все узнавал… А учителя, эти профессора, только удивляются «Ах-ах!» И опять по книгам шарят: может, что осталось, чего Пушкин не знает… Шарили-шарили – нет ничего, хоть бы какая малость осталась! И все только: «Ах-ах!» А себе в голову того не возьмут, что они от книги берут свою науку, а Пушкин все больше от природы брал. А как он там брал – это его дело. Значит, умел, ежели брал… Ну, конечно, и он по книгам учился, и он в книги вникал – без книг никак нельзя. И сам он чрез книги прославился – мало ли написал сочинений. Через книги и пошла его слава. А иначе кто бы знал про него? Ну, кто и знал бы, а прочие не слыхали бы ничего – какой-такой есть Пушкин. А то по всей России пошла слава.
Ну, однако, какая слава его ни была, а пропал он зря, так – за ничто: через свою жену-потаскушку пропал. Ну, понятно, не бульварная она была, а с жиру бесилась: Пушкин нехорош, дай заведу любовника… Вот и завела: нашелся такой ухарь – полковник Павловского полка. А Пушкин и дознался… Как дознался, сейчас на этого полковника налетел и сорвал с него аполеты. А это дело такое нешуточное. Сейчас докладывают об этом царю. А царь говорит:
– Пушкин – человек вольный [т. е. не военный.], какой с него спрос? А тут, говорит, надо спросить полковника: какое его поведение, ежели у него аполеты обрывают. Ежели, говорит, не оправдается, – вон со службы!
А тут вот какое оправдание: раньше у военных не было того, чтобы по судам таскаться, самих себя срамотить, а так было заведено: я убил тебя из пистолета или там из револьвера – значит, на моей стороне правда, значит я оправлен, а ты виноват. Вот и Пушкин тоже вышел против полковника. Он думал срезать полковника, а только сам свалился: полковник получше его стрелок был. Ну, убил, значит, оправдался, совсем оправился. И не стал царь выгонять его со службы.
Конечно, такое правило тогда было, а если по-настоящему, по совести рассудить, какое тут может быть оправдание? С женой Пушкина жил и Пушкина же убил. Где же тут правда? Понятно, это тогда не разбирали, такое тогда правило было, и все тут. Ну, тоже и Пушкина в этом деле не за что похвалить: он вот у полковника погоны сорвал, а того не разобрал, кто тут виноватее всех. Он думал – полковник тут виноват, а того не взял в разум, что полковник не самовольно пришел к ней – она его позвала. А ежели не позвала бы, как он мог нахалом прийти? Ведь человек не без ума был… а тут от нее магнит был. Она виновата, ее и спрашивай. А то он взялся за полковника. Это не дело… По-настоящему-то дал бы ей хорошую выволочку, так она забыла бы, какие полковники бывают, да и сам бы остался жив… А то пропал зря.
Гоголь тоже башка был, умница. Товарищи с Пушкиным были. Пушкин и часы свои золотые ему на память подарил. Это когда Пушкин умирал, когда полковник поранил его. А Гоголь пришел проведать его. Пушкин говорит:
– Возьми часы, носи да меня вспоминай почаще.
А как умер Пушкин, тут же Гоголь все вызвездил его жене.
– Это, говорит, ты, ведьма, Пушкина уходила. Это, говорит, твоя работа.
А ей крыть нечем, потому что – правда.
Ну, похоронили Пушкина. А Гоголь после того за свое дело принялся. Тоже сочинения писал. Как напишет книгу, начальство и тащит его в тюрьму. А это за то, что он за простой народ стоял, начальство здорово протаскивал. Вот начальство и тащило его…
– Ты, говорят, очень горяч – садись, остынь мало-маленько.
Ну, что тут поделаешь? Вот идет Гоголь в тюрьму на казенные хлеба… Посидит месяца с три, его и выпустят, А он опять за свое возьмется. Как напишет книгу – похлеще первой.
– Вы, говорит, сажайте меня, сколько вам угодно, а я от своего не отстану: как писал, так и буду писать.
А они ему:
– И мы, говорят, от своего не отстанем: как сажали тебя, так и будем сажать.
Возьмут и посадят…
А как отбудет срок – опять писать… А начальство уж знает, какое его занятие.
– Пиши, пиши, говорят, место для тебя найдется – тюрьма еще не сгорела, не развалилась…
И как напишет – его тащут в тюрьму. А караульные солдаты смеются: