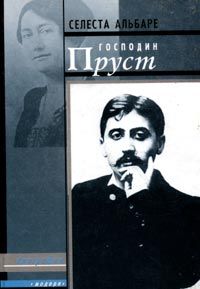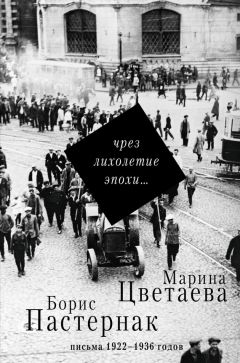Пакеты с книгами укладывал Никола и делал это чрезвычайно тщательно, это был очень аккуратный человек. Обертка выбиралась разная: если пакет предназначался женщине — розовая, а для мужчин — голубая.
Никола сказал мне:
— Так велел г-н Марсель.
Потом объяснил, что я должна с ним делать:
— Этот оставьте у консьержки.
Или:
— А этот в собственные руки.
Но чаще всего так:
— Здесь есть письмо, отдайте его вместе с пакетом.
Он посоветовал мне взять экипаж — так будет удобнее, ведь я совсем не знала Парижа.
В то время еще было много лошадей: фиакры, небольшие двухместные кареты; меня это привело в восторг, ведь я почти никогда не ездила на такси. Помню только один раз, надо было отвезти книгу с письмом для графини Греффюль. Я запомнила из-за того, что потом мне было очень стыдно и неловко: графиня жила на улице Асторж, как раз по другую сторону бульвара Османн, но я этого не знала, а шофер промолчал. Когда я рассказала Никола, он только посмеялся, успокоил меня, что тут не о чем говорить, и, как всегда, отдал деньги. Всякий раз, развезя книги, я возвращалась на бульвар Османн, и он спрашивал:
— Сколько вы наездили?
Я говорила, и он отдавал деньги, ничего больше не спрашивая; судя по всему, так у них было принято.
Наконец, все книги были разнесены. Вот тогда и проявилась доброта и обходительность г-на Пруста, — ведь он никогда ни о чем и ни о ком не забывал.
Он сказал моему мужу:
— Ваша жена, если захочет, может и дальше приходить, — возможно, понадобится отнести какое-нибудь письмо.
Но со свойственной ему деликатностью он начал с того, что спросил Одилона:
— А вашей молодой жене нравятся такие поездки? Ей не скучно? Это и вправду развлекает ее, как мы думаем?
Только когда муж поблагодарил его за заботливость и уверил, что нет, я нисколько не скучаю, он предложил мне приходить.
— Ну и хорошо, пусть она приходит с сегодняшнего дня. Если будет письмо или что другое, она возьмет его; если нет, — уйдет, и дело с концом, во всяком случае это заставит ее выходить из дома.
Так, начиная с того же дня, я стала бывать там каждый День.
Мы поменяли квартиру, но в том же доме на Леваллуа, теперь окна выходили на улицу, стало больше воздуха, я могла видеть восход солнца и, быть может, поэтому стала лучше спать. Я ездила на автобусе от Пор д'Аньер до Сен-Лазара, а потом пешком к бульвару Османн по улицам Пепиньер и Анжу, это совсем недалеко. Если никаких писем не было, я не обязательно сразу же возвращалась; раз уж пришлось выехать в город, можно было воспользоваться этим, чтобы зайти к какой-нибудь из сестер мужа. Иначе говоря, замысел г-на Пруста осуществился; его самого я больше тогда не видела, но он как бы незримо направлял меня из глубины своей квартиры.
Как переменилось для меня время с того дня, когда я узнала его, и за все эти прожитые рядом девять или десять лет с 1913-го до его смерти в 1922-м, в которые были написаны его главные книги. Это время кажется мне то одним годом, то целой жизнью, а первый период, пока я еще по-настоящему не вошла в его дом, или слишком долгим, или совсем коротким, как оно все-таки и было на самом деле.
Я солгала бы, сказав, что могу с точностью до дня, или недели, или даже месяца назвать все даты этого периода, от конца 1913-го до объявления войны. Но как все происходило, все до мелочей, у меня в памяти, а ведь это и есть самое главное. Что толку знать, в понедельник или во вторник я впервые вошла в комнату г-на Пруста? Это ничего не меняет по существу, ничего не прибавляет и не убавляет.
Целых пятьдесят лет я отказывалась написать историю моей жизни рядом с г-ном Прустом, потому что сама себе дала слово. И если в конце концов решилась, то лишь потому, что слишком много о нем написано неправильно и даже просто вранья теми людьми, которые знали его много хуже меня или вообще не знали, разве что по книгам и сплетням. И чём дальше, тем больше искажается его образ, иногда даже совсем непреднамеренно, из одной предвзятости, но часто только от желания показать себя. А какой интерес может быть у меня в мои восемьдесят два года говорить неправду? Я ни разу не солгала г-ну Прусту при его жизни и не собираюсь лгать теперь. Ведь это было бы ложью ему самому. Прежде чем уйти, я хотела бы только одного — по мере своих сил восстановить его образ. Больше ничего.
Так вот, на первых порах я какое-то время была «курьером». Все шло, как тогда с пакетами: я приходила, брала уже приготовленное, возвращалась, Никола отдавал мне деньги, и я шла домой. Или заходила куда-нибудь.
Потом — кажется, в декабре того года, 1913-го, — дела на бульваре Османн как-то разладились. Книга г-на Пуста появилась в магазинах, о ней говорили, но я про это ничего не знала. Альфред Агостинелли и Анна опять уехали на Лазурный берег.
Но, самое главное, жена Никола, Селина, заболела; ее положили в больницу и назначили операцию. Для меня это был поворот в жизни. Но сначала надо сказать о супругах Коттен. Характер г-на Пруста и его отношение ко всему, да еще при такой жизни, не только больного, но и почти уже отшельника, требовали огромной заботы, аккуратности и тщательности; к тому же он все замечал. Квартира на бульваре Османн была замкнутым миром, где очень много значила жизнь людей, окружавших г-на Пруста.
Еще до четы Коттен была Фелиция, старая служанка их семейства; может быть, она появилась у его родителей и после рождения г-на Пруста и его брата Робера, но, кажется, жила у них еще прежде того. Я знала ее только по рассказам г-на Пруста. Судя по всему, она была великой кулинаркой и всех баловала своими рецептами. Он часто вспоминал ее вареную говядину: «А студень был совершенно прозрачный. Такой вкусный!.. Вы и представить себе не можете!» Это знаменитое мясо вошло даже в его роман. Фелиция была высокая, худая и держалась с достоинством. Иногда она одевалась в народный костюм: «Если бы вы ее видели в этом великолепном наряде!». После смерти матери г-на Пруста, последовавшей почти сразу за кончиною отца, Фелиция переехала с г-ном Прустом в Версаль, куда он удалился на несколько недель, а потом устраивала его на бульваре Османн и оставалась там до появления Никола.
Никола Коттен тоже служил в их семье, откуда ушел на место крупье в модном тогда Английском клубе. Г-жа Пруст постоянно говорила сыну, чтобы он больше никогда не брал его:
— Марсельчик, если Никола захочет вернуться, не соглашайся. Он очень мил и приятен, но в этой своей должности крупье научился допивать бутылки, и это уже совсем не тот человек.
И когда, наконец, Никола стал просить г-на Пруста взять его обратно — как предвидела его мать, — Фелиция вспомнила о ее предостережении и сказала, что, если его возьмут, она уйдет. Так она и сделала. Я не сомневаюсь, что г-н Пруст решил взять Никола из приверженности к той жизни, которая у него была при родителях и которой он так дорожил. А Фелиция стала уже совсем старой, и тем более никто не смог бы быть таким камердинером, как Никола: вышколенный, заботливый, всегда на своем месте и с чувством собственного достоинства. Но г-н Пруст нашел его ужасно переменившимся. Потом он рассказывал мне: