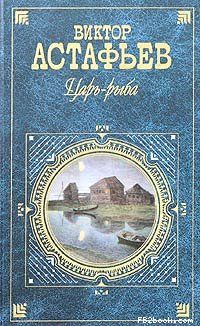Ездил ненадолго в Тюмень и день Победы пробыл там, а вернувшись, нашёл дома приятную весть. Из «Нового мира» сообщили, что люди сего журнала склонны взять мою повесть. Дело только за «небольшим», то есть за Твардовским, если он даст добро, можно приступать к редактуре. Редактуру согласилась делать Берзер. Я её не знаю как редактора, но статьи её, по-моему, когда-то читал.
В связи с такой новостью меня сразу охватил трудовой зуд, и я начал гвоздить подборку лирических рассказов, давно задуманную, выношенную, но из-за того, что я расклеился и вышел из рабочей колеи, до сих пор не написанную. Тут уж очень упорно начали поносить лирическую прозу, и некоторые готовы стали утверждать, что был бы смысл, а всё остальное ерунда, а прозаики, преимущественно полковники и подполковники в отставке, всё жмут на героизацию, в открытую, с трибун съезда, проповедуя мужество, потому что они главной книгой в жизни почитают «Устав полевой службы», а из неё пункты такие, как: «Действия старшего начальника обсуждению не подлежат», «Смирно!», «Кругом!», «Прекратите разговоры!». Кто такой Ницше и почему его фашисты в боги взяли, наши подполковники в литературе понять не умеют. Не хватает ихого ума на это. А уж говорить им о том, что склонность русских писателей к лирической прозе, а русских читателей – к пониманию таковой есть национальная особенность, особенность народа, который нескладных песен не пел, имеет почти весь фольклор ладный и складный, да и сама природа с её зримыми сменами времён года, все её травушки-муравушки, цветочки-цветики, листики-листочки, то расцветание, то умирание на глазах русского человека делают его душу мягкосердной, протяжно-жалостливой. И недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким стихотворным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал, как себя самого. И не знает до се наш простой люд таких поэтов, как Маяковский и ему подобные, хотя они и со «смыслом», а вот Есенина знает.
Наши молодые прозаики, слава богу, небольшая, но бойкая часть их, под шумок суют такие изделия, что в них сплошные афоризмы, переложенные из Ларошфуко или ещё из кого, сплошные эпиграфы и параграфы, подзаголовки занимают уже целые страницы, любовные записки, справки и накладные, целиком переписанные. И всё это для того, чтобы изловчиться и прикрыть отсутствие лирического настроя души, то есть прикрыть отсутствие самого себя, ибо в настрое вещи или в «звуке», как говорил Бунин, как раз и можно только проявить себя, свои чувства, опять же душу, потому что чувства без души не живут, как птицы без гнезда не выводятся, есть, правда, такие, как голубь и кукушка, но они иждивенцы в природе, по-прежнему тунеядцы и дармоеды.
Жуть меня берёт, как я подумаю, что скоро помрут Паустовский, Леонов, Никулин, Шкловский, а что взамен идёт?
Но это уж тема разговора на целый вечер. Письмо и так длинное получилось. Ну да Вы в деревне. Я люблю читать длинные письма, особенно Ваши. Всегда радуюсь им. Всего Вам хорошего. Главное, рабочего настроения. И бодрости. Крепко жму трудовую. Виктор
Июнь 1968 г.
(А. М. Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!
Давно уже получил письмо от Вас, и нынче вот и книжку рассказов, но никак не мог собраться с силами написать Вам. Сначала все мои писания прервала поездка в Югославию. Был первый раз за рубежом и, может, оттого, что был в стране доброжелательной, неплохо живущей, почувствовал себя впервые настоящим человеком, причастным к Великому народу и Великой стране, человеком, которым гордятся и которому есть чем гордиться. Как жаль, что за утверждением собственного достоинства и достоинства своего народа стало необходимо ездить за границу, ибо громкие слова, что говорят нам всечасно равнодушным голосом, перестали уже действовать в своём доме, и если действуют, то даже наоборот. Словом, поездка была прекрасной. Впечатлений масса, и самых хороших.
Но начиналась поездка трудно, в беготне и нервотрёпке, ибо наши доморощенные деятели задержали мои документы в Перми. Оттого я и не повидался с Вами, а звонить не люблю. Надеялся сделать это на обратном пути, но не вышло – очень торопился. Надо было проводить сына в армию.
Приехал 1 мая вечером домой (в пути мне исполнилось 44), а 5-го проводили Андрюшку. Провожали тягостно, особенно мать. Она слегла сразу с тяжёлым сердечным приступом, а когда встала чуток на ноги, я увёз её в деревню. Там копались в огороде, садили кое-чего, а сегодня вернулись – и письмо от сына: отправлен в Германию. Я, как старый солдат, всё время держался, а вот сегодня навалилась какая-то дремучая тяжесть, и весь я как разбитый. И понимаю всё, а поделать с собой ничего не могу – печально, смурно на душе. Писать о новобранцах всё-таки легче, чем провожать их. Да ещё в Германию, будто эта Германия и без того не сидит в моих печёнках. А тут – не парадокс ли! Письмо из Германии – в Берлине собираются издавать «Кражу». Полное содружество семьи Астафьевых с немцами! Один будет охранять их мир и покой, а другой чтением развлекать! Если бы мне сказали об этом в 44-м году – я бы, наверное, коньки отбросил бы от потрясения. А сейчас вот ничего – живём! Ох, всё же какая извилистая штука – жизнь!
Повесть свою «Пастух и пастушка», после третьего захода, я отложил до осени. Пока не я её, а она меня одолевает, потому пусть полежит, может быть, мы найдём общий язык. Да и могу я себе нынче наконец-то позволить не спешить. Если всё будет на горизонте прилично и цензура вовсе не освирепеет, у меня выйдут в нонешнем году четыре книжки и я буду долгое время, при наших скромных запросах, с хлебом и солью. А это такое счастье! Такая свобода, о которой я мечтал много лет.
Очень много появилось какой-то мелкой, суетливой работы, запросы, анкеты, ответы, а я отказывать не умею и считаю должным ответить вниманием на внимание. Вот и пишу всякую шелуху. И тоже волнуюсь, дурак!
Съездили ль Вы в Швецию? Что нового на литературном горизонте? Видел в газетах, как поспешно каются люди, живущие по принципу: не согрешишь – не покаешься. А мой выбрык против «отца русской литературы» стоил мне выброса из «Роман-газеты», и «доброжелатели» обещают, что на этом не кончится, он, мол, памятливый. Да наплевать мне на всё это. Мелочи всё это по сравнению с главными вопросами жизни, которые с возрастом всё меньше и меньше оставляют времени для сна.
Картину Вашу ещё не видел. Она идёт у нас с 27-го числа, но уже много о ней читал добрых слов! Радуюсь за Вас и желаю дальше так же действовать. Передайте от меня и моей бедной Маши привет Валентине, а Вас я обнимаю. Виктор
1968 г.
(Адресаты не установлены)
Уважаемые Элеонора Петровна, Инга Ивановна и Наталья Ивановна!
Я всё лето был в Сибири и потому не ответил на ваше доброе письмо. Да, как у всякого пишущего, у меня тоже появляется «кинозуд», но уж мало чего от него осталось. «Звездопад» пытались поставить на Свердловской киностудии, уже и деньги мне платили, но жена моя напугалась и велела мне их вернуть, ибо ни за один рассказ мне столько не платили, а тут за сценарий, написанный по готовой вещи… Кино не поставили. Сценарий вернули: то я что-то не так сделал, то режиссёра не нашли, то ещё что-то мне непонятное содеялось… Но на этом моя киноопупея не закончилась.
Узнал об этом Юрий Бондарев, что ввязался я в такое дело, а повесть ему нравится. И спрашивает: «Остался ли хоть какой-нибудь экземпляр?» – «Остался», – говорю. «Давай его мне, – сказал, – я его в своё творческое объединение отдам, там ребята хорошие, а про любовь хорошего ничего нет». Я послал. Жду-пожду. Год прошёл. Два прошло, а я всё жду, но не это главное. Главное, что я работаю там, где бог мне назначил, – пишу потихоньку прозу. Однажды у Бондарева спрашиваю: «В корзину его бросили иль как?» – «Не бросили, но потеряли», – отвечает мне Юрий. Кулик или Калик какой-то потерял мой «Звездопад». Как пели в детдоме мои друзья: «Утонул он, утонул, только хером болтанул!..»
Тут я успокоился и решил жить дальше в качестве прозаика и кинозрителя. Но раз! Зазвонили, затрещали телефоны. Студия им. Довженко: сейчас, моментом, с ходу или, как опять же острили орлы-детдомовцы: «С маху под рубаху!», хотят снимать полнометражный фильм по рассказу «Ясным ли днём». Режиссёр любит меня и обожает рассказ! Директор студии рыдает, ибо сам безногий, а тут герой без ноги. Ну, думаю, такое редкостное совпадение даст результат – уж две-то ноги на двоих кино вывезут!
Ан не тут-то было! Есть начальство на двух ногах и даже на трёх, которое попадается и лает: «Як цэ можэ буты, шоб громадяника, та ще червоноармейца бэз лапы на нашему лучшему, передовому, гуманному экране показуваты? Чи мы капыталисти, чи футурысти?.. Пэрэробыть!» Пэрэробляв я, пэрэробляв той горемычный киносценарий и однажды выразился, тихо, но матерно…
На том моя киноопупея будто и кончилась, если не считать нескольких коротких фильмов, снятых выпускниками, из которых я ни одного не видел. Говорят, на Одесской киностудии по рассказу «Солдат и мать» дипломная работа одного из выпускников получилась очень удачной, да и играют в фильме любимые мною актёры – Булгакова и Кононов.