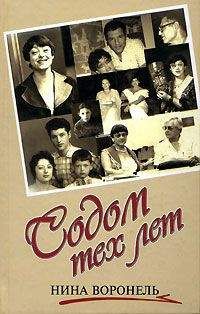«Да, здорово! А когда деревья вырастут, станет совсем красиво».
Энтузиаст был задет нашими необдуманными словами:
«Но тут полно деревьев! Разве вы не видите?»
Мы повертели головами направо и налево и беспомощно развели руками – на наш взгляд в парке не было и намека на деревья.
«Да вы лучше поглядите, за тумбы и за скамейки – там всюду растут деревья, – настаивал обиженный нашей недальновидностью энтузиаст. – Вы даже не представляете, какого труда нам стоило их тут привить!»
Мы честно заглянули – действительно за тумбами и за скамейками прятались от глаз крошечные деревца разных пород, каждое высотой тридцать-сорок сантиметров.
«Но они еще вырастут?» – выразила общую робкую надежду одна из туристок.
«В нашем климате деревья не могут быть выше. Их корни быстро достигают уровня вечной мерзлоты, и дальше им расти некуда».
Нельзя сказать, что кого-нибудь из нас огорчила разлука – мы надеялись, вечная, – с печальной столицей вечной мерзлоты. С облегченным сердцем мы снова загрузились в игрушечные вагончики и пустились в обратный путь. Игарка тоже не слишком радовала глаз ни унылыми домишками, ни дощатыми тротуарами, настеленными над вязкой жижей оттаявшей на короткий срок вечной мерзлоты.
А, главное, проклятой памятью о тысячах тысяч замученных и погребенных в ее недрах – сколько их было? Кто они были? Они канули в безвестность – над их могилами нет ни плит, ни крестов, да и могил самих тоже нет. Их останки поглотила земля и засосала вечная мерзлота.
Как странно – путешествие в Игарку было для меня встречей с прошлым, а путешествие в Таджикистан оказалось встречей с будущим. Потому я и припасла его на десерт, к концу рассказа.
В Таджикистан меня отправили после третьего курса Литературного института для практического овладения тамошним языком, который представляет собой усеченный вариант великого языка фарси. Персы считают язык фарси персидским, а таджики – таджикским. Я же, чудом попавши на переводческое отделение Литинститута, жадно изучала фарси, не отдавая предпочтения ни персам, ни таджикам.
Я мечтала постигнуть с помощью их общего языка загадку великой средневековой поэзии, включающей имена Рудаки, Фирдоуси, Руми, Саади, Хафиза и, главное, Омара Хайама. Мне, действительно, удалось многих из них прочесть в подлиннике и кое-что из их творчества перевести на русский, но со временем очарование их поэзии поблекло в моих глазах и сошло на нет.
Я даже не заметила, как это случилось. Но, когда по прошествии многих лет я задумала издавать сборник своих избранных переводов «Ворон-Воронель», я не сумела выбрать для него ни одного стихотворения перечисленных мною корифеев персидской поэзии, кроме Омара Хайама.
Только он один выдержал для меня испытание временем. Все остальные показались мне напыщенными, помпезными и малосодержательными. Их витиеватые словесные узоры, несомненно, предоставляют переводчику прекрасную возможность тренировать свои версификаторские способности, не предлагая, однако, никакой пищи для души, во всяком случае, для моей.
Но во времена моего ученичества подобные крамольные мысли еще не посещали мою юную голову. Я жила в постоянном предвкушении ожидающих меня поэтических откровений, в значительной степени приумноженных своей недоступностью для других, – простых смертных, не знающих языка фарси. И я погрузилась в изучение этого красивого, богатого языка, построенного разумно, логично и экономно. После третьего курса меня отправили в Таджикистан для языковой практики.
Самолет мой вылетел вечером из аэропорта Внуково с тем, чтобы на рассвете прибыть в Сталинабад. Пассажиров было не слишком много, так что мне удалось пристроиться на двух креслах и задремать – в молодости так хорошо спится в любых условиях! Меня разбудил громкий голос пилота, который сообщил в мегафон, что, к сожалению, ему придется прервать рейс и совершить незапланированную посадку в Ташкенте. Но ждать придется недолго, заверил он нас, уже в семь утра нас отправят дальше, в Сталинабад. Хмурой полусонной толпой мы вывалились в переполненный зал ожидания, где нам сообщили, что рейс Ташкент-Сталинабад перенесен на одиннадцать часов утра.
Делать было нечего – промаявшись до половины одиннадцатого, я отправилась на летное поле искать свой самолет. Это было в те благословенные времена, когда еще никто не догадался взрывать и похищать самолеты, так что каждый желающий мог запросто гулять по летному полю. Самолет, вылетающий из Ташкента в Сталинабад, я опознала по огромной толпе, тревожно колышущейся перед его трапом. Было очевидно, что число желающих попасть этим рейсом в Сталинабад намного превышает количество мест. Начинался жаркий рукопашный бой. Неизвестно, чем бы он окончился для меня, – скорей всего, меня бы запросто оттолкнули, – но некто молодой и симпатичный из команды осторожно взял меня под локоть и, как нож сквозь масло, прошел со мной сквозь бурлящее человеческое месиво и провел вверх по трапу в салон самолета.
Как ни странно, там было безлюдно и тихо – очень немногие из беснующейся снаружи толпы смогли проникнуть внутрь. Когда салон заполнился до половины, двери задраили, и самолет взлетел в небо. Не пролетели мы и часа, как в микрофонах зазвучал голос пилота – к сожалению, сообщил он, рейс придется прервать и совершить незапланированную посадку в Самарканде. Немногие из летевших со мной вечерним рейсом из Москвы стали тревожно перешептываться – как, опять? Что бы это могло означать?
Но нашего разрешения никто не спрашивал – через четверть часа самолет приземлился на совершенно пустынном летном поле Самаркандского аэропорта. Стюардессы начали поспешно выгонять нас из самолета наружу. Стоя на верхней площадке трапа, я огляделась – ни вдали, ни вблизи от нас не было видно ни одного самолета, кроме нашего. К счастью, это было в те благословенные времена, когда еще никто не взрывал и не похищал самолеты, а не то бы я здорово испугалась.
Мое внимание отвлек разгорающийся в салоне скандал. Кто-то, обладавший высоким пронзительным тенором, ни за что не соглашался выходить из самолета.
«Я, Вася Кнопкин, – кричал тенор, – лечу в Сталинабад, вот посмотри, в билете написано! И никакого Самарканда там нет! Хватит, я уже в Ташкенте насиделся!»
В ответ невнятно защебетали встревоженные голоса стюардесс. Из неразборчивого словесного потока несколько раз выпорхнуло узнаваемое выражение «делать уборку», которое окончательно вывело Васю Кнопкина из себя:
«На хрена мне сдалась ваша уборка? И так уже на полдня опоздали – я за уборку денег не платил!» – выкрикнул он почти колоратурным сопрано.