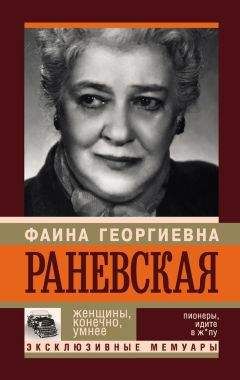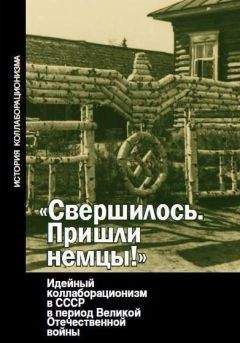Нам нередко приходилось преодолевать разного рода запреты. В 1980 году было столетие Абрама Федоровича Иоффе. В Ленинграде на празднование юбилея собрались все его ученики, и мы решили снимать это событие для телевидения. Буквально накануне выезда мне звонит помощник и сообщает, что все телевизионные камеры в Ленинграде на ремонте и снимать нельзя. Приезжайте, говорит, мы вам расскажем подробности. Я приезжаю и узнаю, что камеры-то в полном порядке, но ленинградское начальство, первый секретарь обкома Романов, категорически против того, чтобы Центральное телевидение снимало про Иоффе и Ленинградский физико-технический институт. Тогда я обратился к тем, кто меня поддерживал в ЦК, и они обещали разобраться. Через несколько часов мне звонят и говорят: «Ты знаешь, все камеры починили!» Мы поехали и сняли всех главных атомщиков страны. В своей речи Юлий Борисович Харитон замечательно рассказывал о том, как он молодым человеком пришел в институт и какое впечатление на него произвел Иоффе, и мне тогда пришла в голову идея записать интервью с Харитоном. Я попросил камеры не убирать, а снять наш разговор с Юлием Борисовичем, его рассказ о том, как встреча с Иоффе определила его путь в науке. Перед съемкой подскакивает телохранитель: «У вас есть разрешение снимать академика?» Я через плечо отвечаю: «Вопрос согласован. В случае чего нас поправят». Сказал на их щучьем языке. Он понял и тут же отскочил. По-видимому, это был первый случай, когда Харитон показался на экране со своими тремя звездами Героя Социалистического Труда. И никто нас не поправил.
В наших передачах мы часто говорили о роли эмоций в жизни людей, о чувстве юмора и остроумии, о психологии человеческих контактов и т. д. И, конечно, с разных сторон и с разными людьми обсуждали проблему творчества, его законы и загадки. В этой связи мне хочется рассказать об одной нашей передаче.
Началось все с того, что осенью 1976 года праздновалось десятилетия Театра на Таганке. В кабинете у Любимова, где все стены расписаны автографами артистов и друзей театра, я стоял рядом с Плисецкой и ее мужем Родионом Щедриным. Вдруг ко мне подходит один малознакомый тип и говорит: «Сергей, ты все делаешь передачи с учеными, а слабо тебе с Плисецкой сделать!» Я стою рядом с Майей, и тут такой вызов! Мне ничего не оставалось, как сказать: «Майя Михайловна, наши зрители предлагают идею. Вы согласились бы с этим?» Она была несколько растеряна, но ответила: «Интересно! Я спрошу Щедрина». А он: «Ну, если тебе хочется — конечно. Известная передача…» Уговор состоялся.
С Ю. П. Любимовым
Я рассказал об этом Николаеву и Есину. Сразу возник вопрос: как делать передачу, где снимать? Незадолго до этого мы были в Ленинграде и снимали передачу об автоматах, автоматическом производстве, и решили в начале показать знаменитого павлина, часы-павлин, из Эрмитажа. Это священное животное Эрмитажа, там есть даже специальный механик, который раз в год заводит эти часы. На съемку ушел целый день: ставили свет, смахивали с павлина пыль, механик его заводил. Я сам в съемках не участвовал — снимали птицу, а не меня, и у меня была уникальная возможность любоваться пустынным Эрмитажем: все происходило в понедельник, в выходной день музея, и никого, кроме нас, там не было, ни посетителей, ни смотрителей. Павлин стоит в начале главной галереи на втором этаже, напротив Петропавловской крепости, и вот я гуляю один, как царь, по этой галерее — незабываемое впечатление! Действительно, музей — это замечательное место для съемки, и когда зашел разговор о Плисецкой, то я подумал, что хорошо было бы снять ее в Эрмитаже. Но Майе не подходит Эрмитаж, она не женщина XVIII века, ее надо снимать в другом интерьере, и тогда мне пришло в голову сделать это в Пушкинском музее.
В Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с И. А. Антоновой
Как всякий нормальный человек, директор Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова очень резко относилась к телевидению и редко кого туда пускала, но все же мы договорились с этой замечательной и умной женщиной.
Понедельник — день, удобный для съемок; и музей, и Большой театр выходные. В субботу, вооруженные букетом роз, мы с Николаевым поехали к Плисецкой разработать план беседы. Майя Михайловна встретила нас с довольно подробными записями своих мыслей о классике и новаторстве в искусстве и науке. Но я сказал ей: «Это все замечательно, большое спасибо, но оставьте все бумажки дома». В понедельник точно к 15 часам Майя Плисецкая приехала в музей, и съемка началась.
Мы оба волновались, и вот первый кадр: проход по большой парадной лестнице музея наверх. Прожектора залили все огнем, стоят телевизионные и кинокамеры. Плисецкая одета в строгий костюм, я иду вместе с ней. А как рядом с такой роскошной женщиной идти? На шаг вперед? На шаг назад? Меня не так пугал разговор, как то, что я должен двигаться — по длинной лестнице о трех маршах, долго идти с великой танцовщицей, которая движением может выразить все, но мне помочь не может. Мгновение съемки приближается. Наконец команда: «Мотор!»
Мы пошли. Я ужасно волновался, однако чувствую, что Майя Михайловна идет так, как надо, — она это умеет и делает лучше всех. Я уже смелее иду рядом и веду так называемую непринужденную беседу. К счастью, звук не записывался, только проход. Мы доходим до середины лестницы, и вдруг — «Стоп!» Нас остановили: из бокового входа появилась уборщица с ведром и веником. Кадр был нарушен. Нас вернули на исходную позицию, все были расстроены: съемка начинается с накладки. Надо идти снова, теперь нам уже легче и у нас есть о чем поговорить. Майя мне рассказывает, что аналогичная история у нее была на съемках фильма в русской деревне. Режиссером был француз. Во время съемок на заднем плане появился некий незапланированный персонаж. Режиссер остановил камеру и попросил через переводчика сказать, что, мол, прошу господина на заднем плане покинуть съемочную площадку. Переводчик через громкую связь это объявляет — ноль внимания. Режиссер вновь настоятельно просит господина покинуть площадку. Снова ноль внимания.
Тем временем мы продолжаем подниматься наверх, мы уже совсем близко от камеры. Тогда переводчик берет дело на себя, и говорит: «Эй ты там, иди отсюда на…» — и это мне Майя рассказывает громко, четко артикулируя. Я к ней поворачиваюсь и говорю: «Знаете, Майя, один процент наших зрителей — глухонемые, которые умеют читать по губам…» И под эту реплику мы вышли из кадра. Этот кадр так и поставили в передачу, и мы получили десятки писем от глухонемых: «Как вы разрешили Майе Плисецкой так выражаться на Центральном телевидении!»