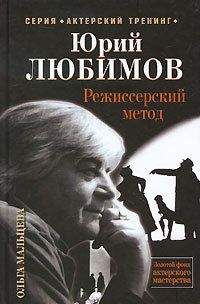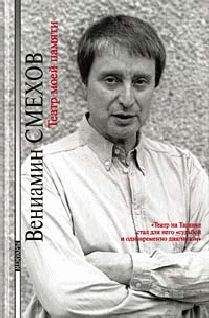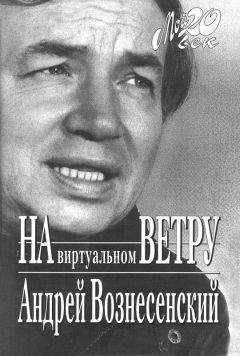Звуковая партитура
Подобно музыке включаются в действие и другие неречевые звуки. Вспомним о звонах в «Борисе Годунове». Они издавались косами, бьющимися о стену или друг о друга. «Обслуживание», непосредственное озвучивание происходящего на сцене если и было, то далеко не исчерпывало содержание звонов. Действительно, на первый взгляд, возникала вроде бы иллюстративность: Сибирь, опала – звон кандалов, Россия православная – колокольный звон, битва – звон воинской сечи. Однако спектакль как целое снимает такую жесткую обусловленность. Повторяясь, звоны будто взаимоотражаются, и в каждом из них одновременно слышатся другие. Ряд звонов, входя в отношения контрапункта с остальными событиями, участвует в создании мира, в котором сосуществуют и оборачиваются друг другом красота колокольного, ужас кандального и кошмар военного звонов. Мир, созданный не без участия самого народа и породивший народ, действующий в спектакле.
Пир во время чумы. Моцарт – И. Бортник.
Звуковая партитура и этого, и большинства других любимовских спектаклей, как правило, многосоставна. Каждый ее элемент имеет свой голос и собственное содержание, но как бы разнородны они ни были, режиссер выстраивает их в единство, внутренняя согласованность которого оказывается специальным объектом зрительского внимания. «Мы с удивлением узнаем практически незнакомую музыку, хотя вся она взята из кинофильма М. Швейцера по тем же «Маленьким трагедиям», – отмечает рецензент «Пира во время чумы». – В музыкальные темы А. Шнитке вплетается даже плеск брошенного в бокал кольца, даже звон рассыпавшихся монет (…). Скрип страшной телеги разрывает музыкальные фразы как диссонанс, чтобы затем многоголосию этому влиться в божественное звучание Моцарта» [37, 71].
Как музыкальное произведение воспринимался полный противоречий звуковой космос «Медеи». Здесь в трагическом поединке переплетались «варварские» надрывные звуки варгана, «эллинско-бродские» хоры Э. Денисова (хоры специально для спектакля перевел И. Бродский), звучащий слог Еврипида-Анненского и, наконец, шум моря, который в финале поначалу поглощал все. Но затем этот финальный аккорд разбивался шумом падающих из крана капель, внося новую тревогу и снимая разрешение. Катарсис снова оказывался под вопросом. Звуковая партитура создавала внутренне конфликтную автономную составляющую в драматическом раскладе спектакля. Но как целое, в своей музыкальной выстроенности, она противостояла миру, где
Никто никогда не знает,
Откуда приходит горе,
миру, где
Никто никогда не знает,
Что боги готовят смертным…
В непосредственно последовавших за «Добрым человеком из Сезуана» спектаклях происходило, наряду с другим, и своего рода оттачивание необходимой режиссеру актерской пластики. В «Антимирах», «Десяти днях, которые потрясли мир», «Павших и живых», «Жизни Галилея», в «Послушайте!», «Пугачеве», «Тартюфе» активно использовались элементы пантомимы и танца. Многие эпизоды были построены полностью средствами пантомимы, как в «Десяти днях, которые потрясли мир», или своеобразно «вытанцеваны», как в «Тартюфе». В дальнейшем пантомима и танец в «чистом виде» применялись не столь интенсивно, но всюду рисунок актерской пластики оставался ритмически строго выверенным.
Особенности пластики как таковые, вызвавшие зрительский интерес, существенным образом определяли и «драматическую активность» (термин Б. Костелянца [42]) персонажа. Присмотримся с этой точки зрения к некоторым постановкам.
Роль пластики персонажей в драматическом действии
В «Пугачеве» на фоне различий действующих лиц пластика отчетливо выявляла их сходство. Автоматично-ритуально движение черных плакальщиц. Механистичны действия трех мужиков-соглядатаев, недоуменно взирающих на помост с бунтовщиками и неизменно «соображающих», что бы на нем ни происходило. Подчинены расчисленному ритуалу екатерининский двор и устраивающие для него представление потемкинские крестьяне в веночках. Даже бунтовщики движутся зачастую, как по команде. Раз – все метнулись в одну сторону помоста, два – все в другую. Три – затопали босыми ногами, четыре – руки на плечи друг другу… Это впечатление не нарушали и отдельные персонажи, проявлявшие индивидуальную волю в разные моменты действия. Ритму массы оказывается подчиненным и Пугачев. Раз – натянули цепь вокруг связанного Пугачева – отклонился. Раз – отпустили ее, Пугачев падает к плахе.
Пугачев. Хлопуша – В. Высоцкий.
Пластический ряд спектакля свидетельствовал о том, что все идет словно по накатанному сценарию, многократно бывало, есть и будет. Заведенность хода жизни становилась только отчетливей благодаря свободной – по контрасту – пластике шута. Шутовское предвидение – игра в начале спектакля с человеческими головами, швыряемыми на помост и скатывающимися к плахе, – ничего не предотвращало.
Установленность, фатальная воспроизводимость происходящего звучала и в последнем аккорде спектакля – появлении трех мальчиков со свечами, безнадежно тянущих «О, Русь…», которые в конце спектакля оказывались на помосте точно так же, как и в начале, словно возвращая все к исходному состоянию.
В «Тартюфе» не было «массы», персонажи действовали индивидуально, каждый по-своему. Но все в тот или иной момент становились похожими на кукол. Стараясь повторить позы портретов, сценические персонажи на мгновение застывали и по существу удостоверяли свою «ненастоящесть». Искусственность поз переходила в искусственность движений. Марионеточны были и лихие выпрыгивания героев «из портретов», ускоренные пробежки и жестикуляция, нередко сопровождавшиеся характерной для кукол инерцией. Персонажи, действовавшие на площадке, оказывались в этом смысле уравнены с куклами Короля и Архиепископа, восседавшими в рамах у правого и левого порталов. Более свободной, человеческой была пластика Мольера, но и он уподоблялся остальным, когда вместе со всеми благодарил и кланялся, благодарил и кланялся, обращаясь к куклам в рамах.
В конце шестидесятых, в «Матери», режиссер попытался противопоставить автоматизму солдатской стены, обывательской кадрили, ритмически столь же строго организованной, – пластику хора, исполнявшего «Дубинушку», свободные движения Матери и других героев, а также одинокий выход Павла с флагом и напряженную статику хора, исполнявшего «Меж дремучих лесов затерялося». Противостояние прерывалось в конце спектакля на полудвижении, на полуслове хора с его «Дубинушкой»…