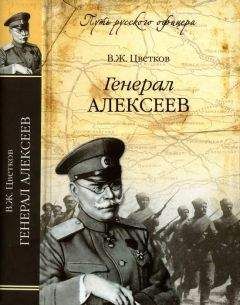— Течь?
— Что? — неудомевающе обратился к нему Хлестаков.
— Я спрашиваю, почему у вас течь?
Публика рассмеялась и живо вообразила себе фигуру начальника отделения из сценки Щигрова «Помолвка в Галерной гавани». Иван Иванович забылся и начал подавать реплики из этого водевиля, почему-то на пол-фразе вообразив, что он играет именно начальника отделения, а не городничего. Однако, он вскоре оправился, опять-таки незаметно для себя вошел в роль Сквозника и окончил акт благополучно.
Его юбилейный спектакль состоял из 2-го действия «Ревизора», одноактной комедии И. С. Тургенева «Завтрак у предводителя»,
1-го действия оперы «Жизнь за Царя» и большого разнохарактерного дивертисмента, в котором принял участие балет. Этот сборный спектакль был вызван тем обстоятельством, что все труппы выразили желание непременно участвовать в шестидесятилетней годовщине одного из талантливейших представителей русской сцены.
Перед началом спектакля юбиляр был поздравлен с высочайшею милостию, и ему вручены были бриллианты на медаль, пожалованную ему в день пятидесятилетнего его юбилея.
В один из антрактов, император Александр Николаевич, зайдя на сцену, прошел в уборную к Сосницкому и вел с ним продолжительную беседу. Польщенный монаршим вниманием, старик разрыдался и не мог отвечать на вопросы государя.
— Ну, прощай! — сказал в заключение император. — Поговорим в другой раз на свободе…
Выйдя из уборной, Александр Николаевич подошел к группе актеров, ожидавших его появления.
— Стар он у нас! Нужно его беречь и холить… Да и вы, старики, себя берегите, — обратился он к Каратыгину, Григорьеву и другим. — Я вас, стариков, люблю и никогда не забуду.
Милостивые слова государя произвели впечатление на всех присутствовавших. Император в то время долго пробыл за кулисами и многих удостоил своим разговором.
Осенью того же 1871 года Иван Иванович выступил последней раз в комедии Минаева «Либерал». Это была его лебединая песня. Вскоре он слег в постель и, после трехмесячного постепенная угасания, 24-го декабря вечером скончался. Его кончину можно назвать кончиною праведника: он умер без болезни, страдания и агонии.
Хоронили Сосницкого скромно. Толпа, шествовавшая за его гробом в Новодевичий монастырь, была не велика. Это был тесный кружок друзей и товарищей покойного.
На могиле его говорили речи Н.А. Потехин и 0.А. Бурдин. Последний сказал краткое, но меткое слово:
«Дорогие товарищи! Бросая последнюю горсть земли на эти драгоценные останки артиста и человека, мы ничем иным не можем почтить память Ивана Ивановича Сосницкого, как тем, если будем стараться подражать ему, как артисту и как человеку».
В последние годы жизни, на восьмом десятке лет, Иван Иванович приметно одряхлел, но ни под каким видом не хотел считать себя стариком. Он бодрился и не прочь был от ролей, требующих исполнителя средних лет. В свои почтенные годы он смело мог бы играть стариков без грима, так как и по фигуре и по лицу, изборожденному многочисленными морщинами, это был человек «древнего вида». Между тем он всегда старательно и долго гримировался, затушевывал свои собственный морщины и выводил суриковым карандашом новые. Разрисует, бывало, себя самым неимоверным образом, наденет на свою лысую голову плешивый парик и любуется собой перед зеркалом вплоть до выхода.
Однажды подошла к нему покойная артистка Громова и спросила:
— Иван Иванович, с чего это ты лицо-то измазал? Все оно у тебя в каких-то рубцах вышло…
— Дура! — не без сердца ответил Сосницкий. — Разве не знаешь, что я старика играю?
Сосницкий плохо запоминал имена, фамилии и числа. Он все, бывало, перепутывал и никогда не мог ничего передать слушателю в последовательном порядке. В обыденном разговоре он перепархивал с предмета на предмет без всякой логики и системы. Подойдет к кому-нибудь и заговорит:
— Вчера я немного гулял по Фонтанке утром для моциона и встретил у моста… у того моста… как его…
— Аничкин?— помогает собеседник.
— Нет… ну, каменный еще…
— Да на Фонтанке все каменные…
— Теперь вот каменные, а я помню их деревянными… Вот, батенька, времечко-то было: говядина стоила грош, хлеб — грош, водка— грош, вся жизнь— грош… Бывало, извозчику-то дашь гривну, так он тебя везет— везет… Приедешь к Ивану, кажется, Петровичу… ах, фамилию забыл… ну, как его… Ну, у него еще зять в коллегии служил… а у зятя отец сенатским столоначальником был… ну, как его… ах, Боже мой, неужели не знаете?
— Нет, не знаю…
— Жена у него такая полная дама, с проседью… и у ней восемь человек детей было разного возраста… Ну, как его… ах, Господи! Опять забыл, на днях еще как-то припоминал его… Ну, тот самый, у которого свояченица с офицером сбежала… ну, как его… она была хорошенькая, черненькая, с большими глазами… Еще жил он на Петербургской стороне, в Гулярной улице… да, ну, как же…
— Да, Бог с ним, Иван Иванович, — не в имени дело…
— Вот хороший-то человек был! Прелесть! Хлебосол страшный…
Кто-нибудь отвлечет Сосницкого от этой беседы, и он преспокойно ее прекратит. Потом через час или полтора подбежит он к бывшему собеседнику и торжественно объявляет:
— Уржумов!
— Что такое?— недоумевая, переспрашивает тот.
— Припомнил, припомнил…
— О чем, про что?
— Ивана-то Петровича фамилия Уржумов.
— Какого Ивана Петровича?
— Да вот про которого я вам давеча-то говорил…
Такие неожиданности у Сосницкого случались довольно часто. Иногда он подлетал с каким-нибудь односложным словом, что либо разъясняющим, через неделю после того, как вел разговор, и весьма удивлялся, если знакомый успел уже забыть какой-нибудь его совсем неинтересный рассказ.
При упоминании о медали, данной Сосницкому, кстати припоминается В. В. Самойлов, которому в 40-летний юбилей была тоже пожалована медаль. Припоминается он потому, что на него монаршая милость произвела впечатление далеко не такое, как на Сосницкого. Иван Иванович принял подарок государя с благоговением, он был в восторге от него и часто с гордостью упоминал о «заслуженной им регалии». Самойлов же, наоборот, равнодушно ее принял и, кажется, никогда не надевал ее. Я помню, как подали медаль Сосницкому: он заплакал и поцеловал ее.
— Не даром трудился я, не даром, — радостно сказал он, — самим императором почтен и отмечен.
Присутствующей при этом Каратыгин заметил:
— За Богом — молитва, а за царем — служба не пропадает…
— Да, да… это ты верно…
Самойлову медаль поднесена была управлявшим тогда театрами бароном Кюстером перед началом юбилейного спектакля.