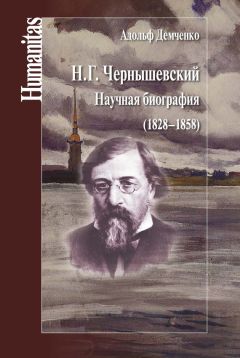Перепёлкин изучает французский, немецкий и английский языки, поступает в духовную академию, где вскоре прослыл «гегельянцем, натурфилософом, рационалистом и проч.», и бросает её, не удовлетворённый постановкой научного дела. После этого он отправляется пешком в Петербург, чтобы поступить в университет.[389] Ночевать он старался в курных избах, «с целию ознакомиться с убогою жизнью беднейших людей». Он видел, как страдает народ под тяжестью беспросветной материальной нужды и полного бесправия. Крепостной Фаддей, у которого брата засекли до смерти, говорит о господах: «Все они норовят притеснить мужика, содрать с него, а не то – побить ни за что ни про что». Под впечатлением горя молодой солдатки-вдовы Перепёлкин сочиняет стихотворение, напоминающее строки Кольцова:
Подымусь я с зарей,
Погляжу на себя:
Где краса ты моя,
Где пригожество? <…>
Всё ждала я его
Из чужой стороны,
Сердце ныло по нём,
Краса вяла моя.
И дождалась я
Горькой весточки,
Что полонен он
Смертью лютою,
Не румянься ж заря,
Не стыди ты меня:
Нажила я тоску,
Потеряла красу.[390]
Беда в том, рассуждает Перепёлкин, что царь и митрополит не знают о беззакониях, лихоимстве, жестокостях, несправедливостях. В «кротких правилах Христова учения», распространённого на весь нравственный строй жизни угнетателей и угнетённых, видит Перепёлкин единственный способ избавления от социальных бед. Он мечтает о времени, когда образованные молодые люди, «истинные и смелые патриоты», раскроют всю правду царю. И, чтобы приблизить это время, Перепёлкин решает посвятить жизнь педагогической деятельности, которая даст возможность «направлять будущих защитников отечества и престола».[391]
Нравственные искания Лободовского близки юному Чернышевскому. Одинаковость происхождения, сочувствие к обездоленным и бесправным социальным низам, осуждение погрузившегося в самодовольное чванство и роскошь аристократического класса, уверенность в могучей силе просвещения и христианской веры, способных преобразить человека, сделать его благородным и справедливым, – всё это сблизило обоих, сообщив их приятельству духовный элемент, постоянно искомый Чернышевским в дружеских привязанностях.
Существенное значение для дружбы между ними имела общность литературных симпатий, особенно к Гоголю. Впервые разговор о Гоголе мог возникнуть в связи с напечатанным в петербургском журнале «Иллюстрация» отзывом Лободовского на книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот что писал отцу Чернышевский 24 января 1847 г. после слов о Никитенко, Некрасове и Белинском, выступивших с критикой новой книги Гоголя: «Тем приятнее было прочитать благородную и умную статейку в 3 № „Иллюстрации”, в которой прямо и без страха высказывается истинный взгляд» на Гоголя. «Утешила меня эта статья, – продолжал Чернышевский. – И вдруг вчера я узнаю, что она писана моим товарищем по факультету и близким знакомцем, который ничего ещё не печатал, не хотел и этого печатать, но не смог не написать и не послать в „Иллюстрацию” в порыве чувства. Очень, очень мне было приятно это» (XIV, 106). Принадлежность рецензии Лободовскому весьма вероятна по близости её содержания взглядам «близкого знакомца» Чернышевского. «На днях я прочитал, любезный друг, – писал автор рецензии в „Иллюстрации”, – новое сочинение Гоголя „Выбранные места из переписки с друзьями”. Что сказать тебе об этой книге? С первых строк она поразила меня: здесь уже не тот Гоголь, который рисовал верную картину жизни русского для русских; здесь Гоголь является учителем русского народа, объясняет ему, что такое он сам и его сочинения. Он учит нас как русский, который всею душою любит своё отечество, как христианин, который видит в церкви опору всей жизни».[392] Подобное толкование Гоголя импонировало в ту пору Чернышевскому, а Лободовскому мысль об особой роли христианского учения в духовной жизни человека была свойственна на протяжении всей жизни.
Читая «Мертвые души», Чернышевский делится своими восторгами с Лободовским, и в дневнике от 5 августа 1848 г. появляется следующая запись: «После Вас. Петр. встал, я пошёл проводил его до Гороховой. Дорогой говорил о Гоголе только. Придя ко мне, он сказал: „Счастливы вы, что не уважали <никого>, кроме Гоголя и Лермонтова, – "Мертвые души" далеко выше всего, что написано по-русски”. После дорогою тоже говорил, что предисловие не кажется ему странным, напротив – вытекает из книги и что он ничего не видит смешного в этом, – это меня обрадовало. – „А эти господа, которые осуждают, – говорит он, – ничего подобного не чувствовали, поэтому не понимают (так в самом деле) и (новая мысль для меня, с которой я совершенно согласен), напиши он это же самое короче, другими словами, все бы говорили, что это так; хоть просто бы сказал: "присылайте замечания"”. – Так, в самом деле высказался из сердца и поэтому смешно. – „Да, – говорит он, – следовательно, гордости, самоунижения, вообще тщеславия здесь никакого нет”» (I, 70). Разговор, разумеется, шёл о предисловии Гоголя ко 2-му изданию «Мертвых душ», осуждённом Белинским и, как отмечалось в предыдущей части главы, воспринятом Чернышевским-студентом в качестве «благородного самопризнания» (XIV, 106). Критическое отношение обоих к Белинскому вовсе не было, однако, отрицанием идей великого критика вообще. Лободовский всегда чрезвычайно высоко оценивал деятельность ведущего литературного критика «Отечественных записок». «Из этого источника раньше я воспитывался», – писал об этом журнале Чернышевский в дневнике (I, 84). Однако оба – Чернышевский и Лободовский – не принимали ни трактовки Белинским «Выбранных мест из переписки с друзьями», ни его порицания заявлений Гоголя о втором томе «Мёртвых душ». Они относили позднейшие высказывания Белинского за счёт не одобрявшихся ими перемен во взглядах последнего. Так, Чернышевский писал в дневнике 1 ноября 1848 г.: «Прочитал 10-ю статью о Пушкине Белинского („Борис Годунов”) <…>: в самом деле, снова хорошо писано, и мне кажется, что взгляд во многом весьма отличается верностью и большими сведениями в истории человека вообще – во всём, может быть, верно, разве только замечание „Борис не гений, а талант, а на его месте мог удержаться только гений” несколько преувеличено или, как это, переходит в декламацию мысли; в самом деле, Белинский был тогда не то, что в последних своих статьях, где пошлым образом говорил о романтизме и проч.» (I, 161). Под «прочим», конечно, имелся в виду прежде всего Гоголь.
Приведённая запись составлена в тоне диалога с воображаемым собеседником, с мнением которого автор дневника вынужден согласиться. Этим собеседником по литературным вопросам в ту пору был один Лободовский. В дневнике Чернышевского находится множество других высказываний о важности для него литературных суждений его друга. «Говорили больше о литературе», – сообщается кратко 9 августа 1848 г. (I, 77). По поводу Диккенса неделю спустя: «Читал последнюю часть „Домби” – хуже много первой, и особенно я это увидел, когда Вас. Петр. сказал, что хуже, – у него действительно вкус тонче и разборчивее моего, он создан быть критиком», «у него вкус более гораздо развитый, чем у меня – от природы, или упражнения, или от лет» (I, 87, 88). 22 сентября после разговора о Гоголе: «Я чувствую, что я перед судьею, который может судить и который по праву судья надо мной» (I, 135). Читая в январе 1849 г. по рекомендации Лободовского «Белые ночи» Достоевского, Чернышевский «боялся влияния Вас. Петровича похвал», но «кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо» (I, 219). 17 января 1850 г.: «Я по голосу Вас. Петр. ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на свете, со включением в это всё и Шекспира и кого угодно» (I, 353). Таким образом, на протяжении всего университетского периода Лободовский в вопросах литературы был для Чернышевского непререкаемым авторитетом.
Политические взгляды Чернышевского также находили (особенно в первые два года их знакомства) немало точек соприкосновений с воззрениями Лободовского, который, как в этом убеждают источники, поддерживал в Чернышевском главное – критическое отношение к окружающей действительности. Приобретённый Лободовским жизненный опыт столкновений с различными проявлениями несправедливости и угнетения совпал в основных чертах с размышлениями Чернышевского по поводу далёких от совершенства общественных форм русской жизни. Лободовский стал первым, кто заговорил с ним о возможности революции в России. «Он сильно говорил о том, – записывал Чернышевский в дневник 3 августа 1848 г., – как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом: „Элементы, – говорит, – есть, ведь подымаются целыми сёлами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да ещё разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего ещё нет”. Мысль <участвовать> в восстании для предводительства у него уже давно. „Пугачёв, – говорю я, – доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны”. – „Нет, – говорит он, – они разбивали линейные войска, более чем они многочисленные”» (I, 67). Подобные беседы, которые Чернышевский, судя по его возражениям, поддерживал поначалу не очень охотно, не были единственными. 6 февраля 1849 г., уже после сближения с петрашевцем Ханыковым, Чернышевский писал: «Вечером был у Вас. Петр., толковал всё о революции у нас и проч., и проч., как и раньше; он любит заводить об этом речь, но раньше я не сочувствовал, а теперь не прочь и я. Мнение его о государе, кажется, переменилось к худшему, во всяком случае, я думаю, что и он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина» (I, 237). Речь о попечителе М. Н. Мусине-Пушкине, – «грубый, чванный человек», по характеристике Лободовского,[393] в мнении обоих он являлся олицетворением тупой бессердечной власти. «Я его враг», – признавался Чернышевский (I, 136, 141, 177). Сравнение царствующего Николая I с Мусиным-Пушкином не было, однако, показателем антисамодержавных настроений Лободовского. Напротив, он всегда оставался убеждённым монархистом и в данном случае высказывался лишь против определённых отрицательных сторон правления русского самодержца. Таким же ограниченным был и его радикализм. Заявления о крестьянском восстании оставались для него только романтическими разговорами. Очень скоро Чернышевский настолько опередил своего друга в политическом отношении, что его революционные заявления всерьёз уже не воспринимал. Так, Лободовский, по наблюдениям Чернышевского, скучал, когда речь заходила о политике, обнаруживая незнание современной политической литературы (I, 254). Он продолжал защищать казавшуюся теперь Чернышевскому отсталой мысль, будто «мир более нуждается в освобождении от нравственного ига и предрассудков, чем от материального труда и нужд; более нужнее развить сердце, нравственность, ум, чем освободить от материального труда» (I, 281). «Мы, наконец, стали говорить о переворотах, которых должно ждать у нас; он воображает, – записывал Чернышевский не без иронии 16 февраля 1850 г., – что он будет главным действующим лицом» (I, 363).