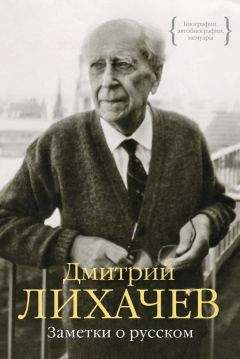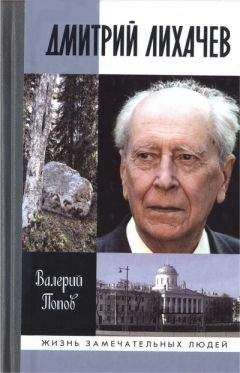Я не думаю, что это черта специфичная для русской литературы. Вспомним «Песнь о Роланде» и другие произведения Средневековья. Вспомним и произведения Нового времени.
Героизм обороняющихся всегда привлекал внимание писателей больше, чем героизм нападающих: даже в наполеоновской истории. Наиболее глубокие произведения посвящены битве при Ватерлоо, ста дням Наполеона, походу на Москву – вернее, отступлению Наполеона.
Сразу после Второй мировой войны в своих лекциях в Сорбонне по истории русской литературы А. Мазон сказал: «Русские всегда смаковали свои поражения и изображали их как победы»; он имел в виду Куликовскую битву, Бородино, Севастополь. Он был не прав в своей эмоциональной, враждебной ко всему русскому оценке оборонных тем. Но он был прав в том, что народ миролюбив и охотнее пишет об обороне, чем о наступлении, и героизм, победу духа видит в героической защите своих городов, страны, а не во взятии другой страны, захвате чужих городов.
Психология защитников глубже, глубже может быть показан патриотизм именно на защите. Народ и культура народа по существу своему миролюбива, и в широком охвате тем литературы это видно с полной ясностью.
Рецидивов научного спора о древности «Слова» быть не может, но различного рода дилетантов набирается достаточно, а за них никогда поручиться нельзя… «Слово», как и всякие известные прославленные памятники, – любимый объект, чтобы «себя показать». Любители – дело другое. Любящие «Слово» могут открыть много нового, могут войти в науку. Но любители и дилетанты – это разных категорий люди.
Документы всегда входили в состав летописи. Вспомним о договорах с греками 911 и 941 годов, тексты которых включены в «Повесть временных лет». Да и в дальнейшем в летопись наряду с литературными материалами (исторические повести, воинские повести, жития святых и проповеди) очень часто попадали письменные документы, не говоря уже о документах «устных» – речах князей на вече, перед выступлением в поход или перед битвой, на княжеских снемах: они также передавались по возможности с документальной точностью. Однако только в XVI веке летопись сама в полную силу начинает осознаваться как документ – изобличающий или оправдывающий, дающий права или их отнимающий. И это накладывает отпечаток на стиль летописи: ответственность делает изложение летописи более пышным и возвышенным. Летопись примыкает к стилю второго монументализма. И этот пафосный стиль представляет собой своеобразный сплав ораторства с государственным делопроизводством.
То и другое развилось в высокой степени в XVI веке и сплелось между собой в вершинах, то есть в литературных произведениях.
Но летопись – разве она вершина литературного искусства? Это очень важное явление русской культуры, но как будто бы, с нашей точки зрения, наименее литературное. Однако, поднятая на колоннах ораторского монументализма и монументализма делопроизводственного, летопись вознеслась до самых вершин литературного творчества. Она стала искусством искусственности.
Как наставления по отношению к правителям государств могут рассматриваться не только «Тайная тайных», «Стефанит и Ихнилат», «Повесть о царице Динаре», многие произведения Максима Грека, послания старца Филофея и «Сказание о князьях владимирских» – последние с изложением теорий (не всегда сходных) права русских государей на престол и на их роль в мировой истории, но и хронографы и хроники, летописи и летописцы. По-разному трактуемая государственная власть все же всегда ставится высоко, повсюду утверждается авторитет государя, всюду утверждается ответственность государей перед страной, подданными и мировой историей, право на вмешательство в судьбы мира. С одной стороны, это разрушало старые представления о великом князе как о простом собственнике людей и земель, но, с другой, возвышая власть государя до единственного представителя и защитника православия после падения независимости всех православных государств, создавало предпосылки для уверенности московских государей в своей полной непогрешимости и праве вмешиваться даже во все мелочи частной жизни.
Поучения, наставления, советы, концепции происхождения рода и власти московских государей не только ставили власть под контроль общественности, но и одновременно внушали московским государям мысль об их полной бесконтрольности, создавали идеологические предпосылки для будущего деспотизма Ивана Грозного.
О «негромкости голоса» древнерусской литературы. Это вовсе не в укор ей сказано. Громкость иногда мешает, раздражает. Она навязчива, бесцеремонна. Я всегда предпочитал «негромкую поэзию». А о красоте древнерусской «негромкости» вспоминается мне следующий случай. На одной из конференций сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, где были доклады по древнерусской музыке, выступил Иван Никифорович Заволоко – ныне покойный. Он был старообрядец, кончил пражский Карлов университет, прекрасно знал языки и классическую европейскую музыку, манеру исполнения вокальных произведений. Но и древнерусское пение он очень любил, знал, сам пел. И вот он показал, как надо петь по крюкам. А надо было не выделяться в хоре, петь вполголоса. И, стоя на кафедре, он спел несколько произведений XVI–XVII веков. Он пел один, но как участник хора. Тихо, спокойно, самоуглубленно. Это был живой контраст манере исполнения древнерусских произведений некоторыми из хоров сейчас.
И в литературе авторы умели себя сдерживать. Не сразу и разглядишь такую красоту. Вспомните рассказ «Повести временных лет» о смерти Олега, рассказ о взятии Рязани Батыем, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И сколько еще этих скромных, «тихих» рассказов, так сильно действовавших на своих читателей!
Что касается до Аввакума, то он на грани Нового времени.
Поразительно «сопереживание» протопопа Аввакума. По поводу потери сына боярыни Морозовой Аввакум пишет ей: «Тебе уже неково чётками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки погладить – помнишь ли как бывало?» До физиологичности четко передано ощущение отсутствия сына: некого по головке погладить! Тут и виден Аввакум-художник.
Литература Нового времени восприняла (отчасти незаметно для самой себя) многие черты и особенности литературы древней. Прежде всего – ее сознание ответственности перед страной, ее учительный, нравственный и государственный характер, ее восприимчивость к литературам других народов, ее уважение и заинтересованность в судьбах других народов, вошедших в орбиту Русского государства, ее отдельные темы и нравственный подход к этим темам.
* * *
«Русская классическая литература» – это не просто «литература первого класса» и не литература как бы «образцовая», ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам.
Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это далеко не все. Эта литература обладает и своим особым «лицом», «индивидуальностью», характерными для нее признаками.
И я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие громадной «общественной ответственностью».
Русская классическая литература – не развлекательная, хотя увлекательность ей свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства: она определяется предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы – решать вместе: и автору, и читателям.
Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно-нравственные вопросы. Авторы не морализируют, а как бы обращаются к читателям: «Задумайтесь!», «Решите сами!», «Смотрите, что происходит в жизни!», «Не прячьтесь от ответственности за все и за всех!» Поэтому ответы на вопросы даются автором вместе с читателями.
Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей.
Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, – не временные, не сиюминутные, хотя они и имели особое значение для своего времени. Благодаря своей «вечности» вопросы эти имеют такое большое значение для нас и будут его иметь для всех последующих поколений.
Русская классическая литература вечно живая, она не становится историей, «историей литературы» только. Она беседует с нами, ее беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически, делает нас мудрее, приумножает нашу жизненную опытность, позволяет нам пережить вместе с ее героями «десять жизней», испытать опыт многих поколений и применить его в своей собственной жизни. Она дает нам возможность испытать счастье жить не только «за себя», но и за многих других – за «униженных и оскорбленных», за «маленьких людей», за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств…