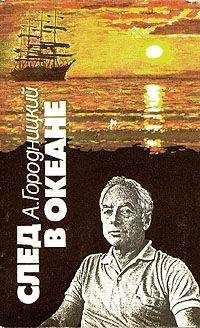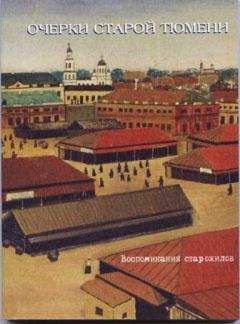«А теперь, — заявил он мне неожиданно, — я объясню тебе механизм власти. Вот, погляди, у меня двадцать работяг и двадцать пар сапог. Я им сапоги раздал, и они на меня плюют: я им не начальник, я — завхоз. А сейчас представь себе другую ситуацию: у меня двадцать рабочих и только десять пар сапог. Я уже начальник — я кому-то могу дать, а кому-то — нет, понял? В этом и есть главный принцип власти».
Его улыбающаяся, всегда небритая физиономия с мясистым горбатым носом, никак не гармонировавшая с неизменной морской фуражкой, с которой он никогда не расставался, казалась лукавой и плутоватой. Однажды, после какой-то крупной пьянки, он выстроил в шеренгу своих работяг, которые его обожали, вызвал из палатки меня и спросил заплетающимся языком: «Саня, скажи, а вот есть в Ленинграде такой поэт — Шефнер?» «Ну, есть», — негромко ответил я, удивленный неожиданностью и неуместностью вопроса. «Громче говори, а вы, босяки, все слушайте, понятно?» «Есть такой поэт», — уже громко выкрикнул я, ничего по-прежнему не понимая. «Хороший поэт?» — снова спросил Мариенгоф. «Ну, хороший, а что?» «Нет, еще раз скажи, что хороший, а вы все слушайте!» «Хороший», — заорал я громко. «Так вот, — торжествующе заявил Борис Борисович, подняв вверх палец, — я у него в тридцать восьмом году в Ленинграде бабу увел!»
С тех позабывшихся времен я не видел Бориса Борисовича Мариенгофа много лет, даже не знал, жив ли он. Однако совершенно неожиданно в прошлом году встретил его в переполненном вагоне ленинградского метро. «Привет, Саня», — окликнул он меня, и, как будто продолжая прерванный только вчера разговор, сказал: «А я все-таки этих сук обманул (он показал пальцем вверх) — у меня сын в Париж уехал!» И улыбнувшись своей плутоватой улыбкой, сошел на следующей остановке.
Первый полевой сезон в Заполярье подарил мне также знакомство и дружбу с удивительным человеком — Анатолием Клещенко.
Мне вспоминаются жаркий июльский день 1957 года, наполненный неотвязным гудением комаров на порожистой и стремительной таежной реке Горбиачин, в правобережье заполярного Енисея, и узкая заплатанная байдарка с двумя бородачами в накомарниках и видавших виды штормовках, выскочившая из-за поворота перед нашей стоянкой. Оба они оказались нашими земляками-ленинградцами, один, как и мы, геолог, а второй, невысокого роста, худощавый, с цепким внимательным взглядом и дымящей трубкой, назвался сезонным рабочим. Так произошло мое первое знакомство с Анатолием Клещенко, поэтом, писателем и охотником, человеком трудной и легендарной биографии, опубликовавшим свои первые стихи в 1937 году, принятым в Союз писателей в тридцать девятом и осужденным на максимальный срок за антисталинские стихи в сороковом.
Анатолий Клещенко родился 14 марта 1921 года в деревне Поройки Ярославской области. Отец Толи — Дмитрий Андреевич — был «богомазом», реставрировал иконы в церквах города Мологи, ушедшего вместе с ними на дно Рыбинского водохранилища. Говорят, до сих пор в окрестных деревнях в некоторых домах висят иконы, написанные отцом Анатолия. В 11 лет Толя решил убежать в Америку, но вместо этого в Молдавии попал в табор к цыганам и почти год кочевал вместе с ними, научился ходить на руках, делать сальто. Там же он в совершенстве изучил блатной жаргон, что немало помогло ему впоследствии в лагерях. После того как отец разыскал беглеца, он отвез его в Киево-Печерскую лавру, где обучил иконописному мастерству. Это тоже помогло и в лагере, и в последующей ссылке под Красноярском. Я помню, что стены в его последней квартире в Петропавловске-Камчатском были поначалу разрисованы им самим, но вмешался бдительный «домовой комитет», и пришлось живопись со стен убрать.
Анатолий не получил высшего образования в молодости, но был упорным самоучкой, человеком редкого стремления к культуре и познанию. В его детском и юношеском воспитании большую роль сыграли известный литературовед Борис Иванович Каплан, расстрелянный в сорок первом году, и его жена Софья Шахматова. Борис Иванович впервые был арестован еще в тридцать четвертом году, так что обстановка произвола и репрессий была знакома Толе с детства.
Его ранние поэтические публикации привлекли внимание Анны Ахматовой и Бориса Корнилова. Зверские пытки и избиения в подвалах печально знаменитого «Большого Дома» на углу Литейной и Шпалерной не сломили девятнадцатилетнего юношу и не заставили его отречься от найденных у него при обыске самоубийственных стихов, в которых он непримиримо обличал сталинизм и самого Сталина:
Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только — обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели.
В темные и страшные времена, когда, не выдержав физических и нравственных мук в застенках, бывалые бойцы покорно подписывали заведомо ложные обвинения, отрекаясь от самих себя, Анатолий нашел в себе силы и на суде бесстрашно обличать сталинщину. Почему его не расстреляли? По чистой случайности — как раз в это время ненадолго была отменена смертная казнь. Вместо этого ему предстояло заживо сгнить в лагерях. Шестнадцать беспросветных лет провел он там, но не погиб, не сломался и не согнулся:
Иных покрыла славою война,
Иные доставали ордена
За нашу кровь, не оскверняя стали.
Мы умирали тихо в темноте,
Бесславно умирали, но и те,
Кто убивал нас — славы не достали.
В лагере, в нечеловеческих условиях неволи и каторжного труда, состоялось его поэтическое и нравственное становление. Там он ухитрился написать несколько циклов стихов и поэму о своем любимом герое — Франсуа Вийоне. Выбор героя его поэмы — не случаен. Именно великий французский поэт, вынужденный общаться с судьями и палачами, давал Анатолию силы выжить в беспросветных потемках ГУЛАГа, и выжить достойно. Да и соседями его подчас оказывались видные ученые — такие, например, как Василий Семенович Буняев — автор многих учебников по французской и немецкой литературе.
Пройдя все круги лагерного ада, Клещенко не согнулся, не ожесточился, не озлобился. Двадцатый съезд и реабилитация в 1957 году вернули его в родной Ленинград. По ходатайству Анны Ахматовой, Бориса Лихарева и Анатолия Чивилихина его заново приняли в Союз писателей, поэтому до самой смерти в его документах значилось, что он член союза не с тридцать девятого, а с пятьдесят седьмого. Приходилось все начинать с нуля. Стихи его не печатали. Александр Ильич Гитович помог ему с переводами — надо было на что-то существовать. И тогда Анатолий начал писать прозу («для денег», — говорил он сам). Его переводы тибетских народных песен, сделанные в 1957 году, сразу же получили самую высокую оценку Л. Н. Гумилева и Б. И. Панкратова.