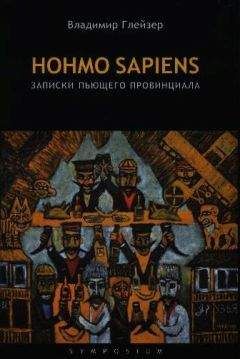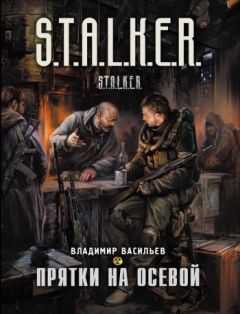Нас развела с ним судьба в лице безмерно опекающей и любящей Толиной жены Татьяны Марковны, убежденно принимавшей наш совместный досуг за первый синдром супружеского недуга, каждый Божий день ожидая перехода стабильного мужнина пьянства в наследственный по отцу алкоголизм.
Ростовский базар начала семидесятых впечатлял не только широтой станичного ассортимента, но и самим казачеством, представленным широченными в груди и бедрах казачками. Белотелые и черноглазые, они не только торговали дарами природы, но и выставляли на прилавки самих себя, как эти дары, во всем великолепии пестрых цыганских нарядов и безудержного белозубого веселья. Это был праздник, которым было стыдно пренебречь. И мы с великаном Толей начали жить на базаре. Гостеприимные хозяюшки поили нас до отвала самогоном и кормили от пуза салом и соленьями только за то, что видели в наших глазах зеркальное отражение их праздника — с болтовней ни о чем и взаимными подковырками на грани фола в области подола. В гостинице мы практически не ночевали, а об участии в международной конференции напрочь забыли. Поверьте — мы искренне плакали вместе с лучшей половиной Войска донского, когда уходили с растолстевшим Толей на прощальный банкет, проводившийся на белом двухпалубном пароходе. Судно было арендовано лично ректором Ростовского университета Юрием Андреевичем, родным сыном убиенного врачами-вредителями члена Политбюро тов. А. А. Жданова и вторым зятем товарища Сталина по Светлане Аллилуевой. Возможно, поэтому, а может, и нет, но и пароход, и банкет поражали социалистической роскошью.
За столом выше Жданова по табели о рангах был только академик Николай Дмитриевич Девятков, главный электронщик страны и Герой Соцтруда. Улыбчивый старикашка застольничал в компании более мелких корифеев, сверкая «Золотой Звездой» по сторонам. Свет этой далекой звезды, преломляясь через бутылочное стекло, не мог не задеть клавишей моего скучавшего по базару хулиганского клавикорда. И я заключил пари с подвыпившим ученым соседом по столу, что подойду к академику и попрошу на минутку его китель со звездой для снимка на память. Что и проделал.
— Николай Дмитриевич! — вежливо сказал я. — Не сочтите за хамство, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Дайте на секунду мне ваш пиджак, чтобы фотокорреспондент запечатлел меня в нем на снимке. Так как никто не поверит, что звезда — моя, у меня будет всегда повод рассказать научной молодежи о великом друге и вожде электроники. То есть о вас.
— Пиджак я, юноша, конечно, вам не дам, размеры у нас разные, но сфотографироваться в нем рядом с молодым нахалом доставит мне удовольствие!
Потом мы долго спорили за столом, выиграл я пари или нет, выпивая рюмку за рюмкой за счет сына члена Политбюро, но эпизод этот сыграл существенную роль в моем научном самоутверждении.
Диссертацию я писал под научным руководством тогда еще не профессора Александра Федоровича Голубенцева, человека сложного и неуживчивого. Талантлив он был безмерно, но из-за столь же безмерной подозрительности все делал сам, и я до сих пор не уверен, насколько самостоятельным ученым я был — Голубенцев выверял мои расчеты по десять раз, ошибок, правда, не находил, но и неглубокие корни гениальности из меня выкорчевал раз и навсегда. Физически А. Ф. был просто могучим (в молодости — кандидат в мастера спорта по гимнастике), но все время нудно жаловался на здоровье.
Причина была одна: А. Ф. совершенно не мог пить — в отличие от своих коллег — спиртное, ему становилось плохо с одной рюмки, и, глядя на собственного ученика, поглощающего яд литрами и ежедневно, он впадал в удручающий комплекс полнейшей профессиональной неполноценности.
Голубенцев принимал мои отчеты дома, в маленькой кухоньке, служившей ему кабинетом, где, не разгибаясь, он мог просиживать с карандашом сутками. Я присаживался напротив на табуретку и вел с шефом неторопливую беседу как о науке, так и о жизни вообще. Отношения наши очень быстро переросли в дружеские. Через каждые двадцать минут этот мнимый больной нагибался под стол, брал в каждую руку по полуторапудовой гире, поднимал их на уровень плеч и со словами «Мы читали, мы писали, наши пальчики устали!» делал производственную гимнастику.
Эпопея написания диссертации подходила к завершению, когда произошло несчастье: председатель ученого совета, он же ректор университета Шевчик, как и ожидалось, долизался до риз и был силой помещен в дурдом ровно до тридцать восьмого мартобря. Совет замер в коме, утраченное время утекало, а с ним уплывал и ребенок. Посему было принято отчаянное и смелое решение: мы с Голубенцевым без приглашения едем на доклад в головной московский институт, где на науке скалою сидит бескомпромиссный академик Н. Д. Девятков.
А компромиссно сочувствовавшая как Шевчику, так и мне столичная ученая братия довольно хорошо приняла мое сообщение и по результатам обсуждения сочинила за обедом положительный отзыв, который я лично вызвался подписать у корифея. Обычно эта процедура занимала несколько месяцев, но дедуля узнал меня и со словами: «Что, юноша, за звездой пришел?» — в момент поставил царственный автограф.
Пораженный случившимся Голубенцев автоматически хлопнул со мной по стакану, предсказав абсолютно точно два последствия. Первое: завтра у него развалится башка — и второе: от скоропалительной девятковской индульгенции зачешутся репы и у коматозных замов безвременно ушедшего в запой председателя. Дедушкино «добро» перевешивало любое зло любого ученого совета!
В Алисины времена сплошного Зазеркалья обязательные последиссертационные банкеты в очередной раз были запрещены под страхом гражданской смерти всех соучастников без исключения. Обмыть столь быстро случившийся успех страждущий казенный люд решил путем тайной маевки на необитаемом острове посредине могучей реки Волги.
На величавой деревянной лодке-гулянке, позаимствованной у богатого волжского рыбака писателя Коновалова, к месту назначения в два приема были доставлены: водка, полсвиньи, хлеб, чай, дрова, медный самовар и раструбный патефон с пластинками тридцатых годов, а также сами тайные карбонарии в купальных костюмах модели «семейные трусы до колена».
Все было долго и хорошо, но в память вмиг отрезвевших ученых запал конец мероприятия, когда при возвращении перегруженный нагрузившимися пассажирами маломерный «Титаник» внезапно дал течь. И в отсутствие лоцмана, видимости, багра, весел, плавжилетов и иных спасательных средств затонул в пяти метрах от берега в перпендикулярном фарватеру бурном потоке сточных вод городской канализации. Утонуть на мелководье было невозможно, но все оказались в дерьме, а я — в белой манишке, так как в момент стремительного погружения уже заслуженно и утомленно ночевал, как тучка золотая, на груди у Толи-великана.