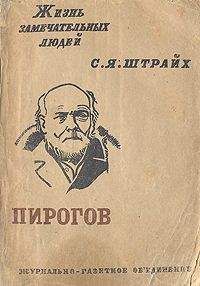«Всероссийские» иллюзии
Александр II, приняв от «незабвенного» родителя команду над Россией, в первые же дни, своего царствования ввел в память Николая новые мундиры для военных. Даже робкие и обожествлявшие царя фрейлины находили, что «государь мог бы найти в такое время более существенное дело, чем кафтаны, полукафтаны и вицекафтаны». А. Ф. Тютчева записала в своем «Дневнике» за 1 апреля 1855 года: «Никто не решается сказать государю, что в столь серьезный момент это очень вредит ему в глазах общества».
Затем Александр решил поехать на театр войны. Еще в 1847 году он писал отцу, что перед фронтом чувствует себя в своей тарелке, добавив: «это, кажется, у нас в крови». Поэтому Александр полагал, что его присутствие одушевит войска. Отправляясь в Крым, император заехал по дороге к святым угодникам — спросить у них благословения для русской армии: дальнобойным пушкам и нарезным ружьям союзников новый царь, как и его предшественник, противопоставлял иконы и кресты.
Отстояв много обеден у «Спаса за золотой решеткой» и в других святых местах, Александр поехал в армию. Генералитет зашевелился.
Пирогов писал жене из Севастополя, что там «ожидают государя и все в ужасном движении; по улицам скачут и бегают; фонари зажигаются, караульные расставляются». Все заявления Николая Ивановича о госпиталях, которые до того лежали в главной квартире без исполнения, «вдруг явились на сцену, по крайней мере на бумаге; чуток русский человек».
Николай Иванович сообщил жене, что царь был в Севастополе «несколько часов, осмотрел некоторые госпитали; хотел остаться всем довольным и остался, хотя многое не так хорошо, как кажется». Погода была ветреная и очень холодная, больные жестоко зябли в бараках и госпитальных шатрах. Перекоп был весь запружен больными из гренадерского корпуса, и вывоз их делался с каждым днем труднее.
Царь возил солдатам древние иконы; генералы заботились о подъеме их боевого настроения. Приемы были у них тоже древние. Когда генералу Липранди, пользовавшемуся славой хорошего и распорядительного начальника, показали гнилые сухари, которые выдавались солдатам, он заметил: «А я вам окажу, что это неплохо. Чем солдат голоднее, тем он злее. Нам того и нужно. Лучше будет драться. Дайте-ка им теперь неприятеля — разорвут». Присутствовавший при этом главнокомандующий присоединился к бравому генералу и сказал: «Липранди прав. Истории затевать не надо. Заменить этих сухарей нечем. Поневоле солдаты съедят».
Вся эта трагикомедия наводила на Пирогова ужас и тоску. Тяжело было наблюдать интриги, бесполезно было бороться с подвохами. Пробыв в действующей армии семь месяцев, Николай Иванович выехал в Петербург. Здесь он наладил изготовление рисунков к своим «Анатомическим таблицам», порассказал в либеральных придворных кругах о генеральских мерзостях и через три месяца вернулся в Крым.
Падение Севастополя, позор родины, ничему не научили царских генералов. Продолжалась прежняя неразбериха, усилилось воровство в деле военного снабжения, яростнее стали атаки интендантских и госпитальных мародеров на Пирогова, его врачей и сестер. Когда Николай Иванович требовал упорядочения госпитальной администрации, начальство сообщало царю, что Пирогов мешает вести военные операции, что он хочет быть главнокомандующим. «Страшит не работа, не труды, — писал Пирогов. — Страшат эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится. Быть мертвой буквой я не могу. Если я принес хоть какую-нибудь пользу, то именно потому, что нахожусь в независимом положении. Но всякий раз нахрапом, производя шум и брань, приносить эту пользу — не очень весело… Кто думает, что я приехал в Крым только для того, чтобы резать руки и ноги, тот жестоко ошибается. Этого добра я уже достаточно переделал».
В начале декабря 1855 года Пирогов выехал в Петербург. Дорогою и в столице Николай Иванович только и слышал, что разговоры о необходимости перемен. Каждая группа, каждый класс населения ждали перемен в соответствии со своими интересами, по своему пониманию. Грозные признаки надвигающихся бурь устрашали многих. Крестьяне изнемогали под бременем крепостной зависимости, случаи жестоких расправ с помещиками превратились в бытовое явление, восстания принимали стихийный характер. Если за 20 лет царствования Николая отчеты министров отметили 250 убийств и покушений на помещиков и управителей, — то в 1855 году, по докладу шефа жандармов, «крестьяне лишили жизни своих помещиков 9, управителей и старшин 17, безуспешных покушений было 13»; в 1856 году, по неполным министерским данным, было 8 убийств помещиков, 2 покушения и 11 случаев побоев. Отчет шефа жандармов за 1855 год отметил, что «между крестьянами по объявлении высочайшего манифеста о государственном ополчении, происходили в некоторых местах беспорядки». Крестьяне Ковенской, Воронежской, Пермской, Нижегородской, Новороссийской и юго-западных губерний тысячами и десятками тысяч снимались с мест, приходили в города и требовали записи, главным образом, в морское ополчение.
Объяснялось это вовсе не патриотическим рвением крестьян, а «превратным, как писал шеф жандармов, толкованием воззвания святейшего синода», стремлением «к освобождению от работ в пользу помещиков», попросту говоря желанием освободиться от крепостного гнета. Среди крестьян пошел слух о том, что участники ополчения получат свободу и землю. Ни в соображения первого русского помещика, ни в расчеты всех других российских душе- и землевладельцев не входило такое толкование манифеста. Царь разослал своих генерал- и флигель-адъютантов усмирять восстания. Император «высочайше повелел» им, «не охлаждая проявившегося в крестьянах чувство преданности к престолу и отечеству, принять все нужные меры к отвращению беспорядков». Генералы и полковники приняли меры: вернули некоторые отправлявшиеся на фронт постоянные войсковые части с артиллерией и вразумили крестьян, в иных случаях — при помощи сводных отрядов в составе двух полков.
Возникали и другие массовые волнения в последние месяцы войны. На почве слухов о вызове крестьян для заселения разоренных мест Крымского полуострова с предоставлением им свободы от помещичьей власти — из населенных имений Екатеринославской и Херсонской губерний крестьяне уходили толпами от 3 до 9 тысяч человек. Их иллюзии рассеивались вооруженной силой, причем крестьяне в свою очередь нападали на слабые воинские отряды. Конечно, победа в конце концов была на стороне царя и его генералов.
Пришлось думать о мире с внешним врагом. Во-первых, надо было перебросить полки с внешнего на внутренний фронт, так как число крестьянских волнений все увеличивалось. Во-вторых, надо было скорее перевести войско на мирное положение для предупреждения самочинной демобилизации солдат, которые при известиях об усмирениях в родных деревнях говорили: «что нам турки, нам свои не легче». В-третьих, не только солдаты вслух выражали пожелание «хоть бы скорее молодец-австриец пришел», но и офицеры нетерпеливо ждали прекращения войны какой угодно ценой. Преданный монархист, богобоязненный Иван Сергеевич Аксаков, писал отцу с Юга: «Если вам будут говорить о негодовании армии по случаю позорного мира — не верьте. За исключением очень и очень малого числа, все остальные радехоньки. Войску желательнее всего не умирать ни в каком бою. Полковые командиры порастратились и желают свести счеты на постоянных квартирах, раненые офицеры мечтают о народнических и исправнических местах». В-четвертых, возобновилась революционная пропаганда «злонамеренных агитаторов», и не только среди учащихся, — среди рабочих и солдат; люди, не хотевшие «знать, что связь между нашим помещиком и крепостным, сливаясь в самодержавии государя, очень скрепка», стали нарушать этот «твердый оплот благоденствия и тишины в государстве». В одном селении царским властям при содействии солдат пришлось убить 5 крестьян и ранить 4, в другом — убить 20 человек и ранить 40, а затем еще послать в арестантские роты двух «менее виновных крестьян» и предать военкому суду трех «подстрекателей».