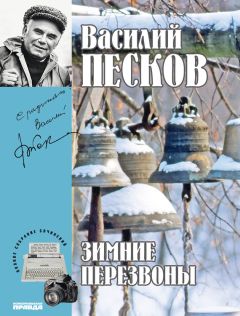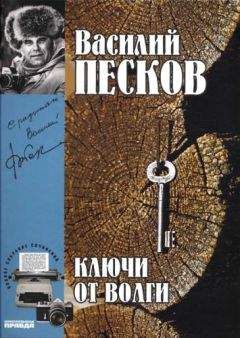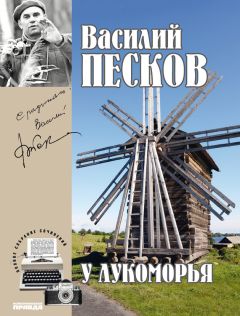Сначала я отлучился из роты на полчаса и принес «потрясающую новость»:
– Хлопцы, ходит слух: на Донской фронт прибыл Сталин.
«Новость» понеслась по окопам и траншеям – солдатский телеграф действовал безотказно. И через час в нашем батальоне уже не было человека, который бы не занялся собой – бреются на морозе, трясут шинели, хлястики пришивают, оружие драят. Начальство в недоумении, на вопросы отвечает: «Не знаем…» Но солдат слухам верит больше, чем начальству.
В.: Признались кому-нибудь в этой затее?
О.: Нет. Никто бы не поверил. Победа под Сталинградом для каждого была праздником. Я угадал настроение.
В.: У вас ведь был, наверное, счастливый день на войне?
О.: А как же. Смеяться будете, связано это с баней. 28 ноября 1943 года за Днепром я был ранен. Не тяжело. Но ясно было: отвоевался. Мчал меня в наполненной соломой двуколке к переправе Степан Моисеев. Бывают чудеса на войне, у Сталинграда я его пожалел – сорок пять человеку, – отправил в хозяйственный взвод ездовым. У Полтавы на реке Ворскле мы снова с ним встретились. Под ураганным огнем мчались мы со Степаном по дамбе. Он в двуколке, а я, держась за веревку, бежал сзади. Пронесли нас сквозь стену огня невредимыми монгольские лошаденки. И вот теперь за Днепром в третий раз встретились со Степаном. Он меня, как сына, уложил на солому. Гнал быстро. Раненые роптали, уступая дорогу. А Степан – война научила быть хитрым – покрикивал:
– Посторонись, ребята! Раненого полковника, Героя Советского Союза везу.
Я его дергаю:
– Степан, бога побойся. Плащ-палатку поднимут – изобьют и тебя, и меня.
Когда прощались у переправы, обнял меня Степан Моисеев:
– Жениться вздумаешь – приезжай. Семь дочерей у меня…
Потом был санбат. Операция без наркоза. Чтобы медсестер не пугать ревом, я рот ватой забил.
А потом была баня в Новых Санжарах. Ее устроили то ли в школе, то ли в какой-то конторе. На дворе в котлах и бочках грелась вода. Нас, израненных, чумазых, обросших, приводили в божеский вид старушки и молодухи. Радость была – описать невозможно. Тело освобождалось от грязи. А душа словно оттаяла. Глядели мы, двадцатилетние, на такого же возраста девушек – голова кружилась от прикосновенья их рук. И казалось, ничего в жизни не может быть лучше этого радостного тепла.
В.: Был потом госпиталь?
О.: Да, в Павлове на Оке. А потом дорога домой, в нашу яблоневую Бурчмуллу, к родной шахте… В Куйбышеве вышел я из вагона. В помещении вокзала народу битком. Много детей, и все голодные. Я развязал вещмешок. Дети облепили, как голуби. Худые – кожа да кости. Глаза большие. Меня поразило – десятка три ребятишек, а терпеливо, без суеты, в очередь получают гостинцы… В ташкентский поезд сел я с пустым мешком. Трое суток со мной делились кто чем. И с радостью. Мы много сейчас говорим о милосердии. А оно у меня в памяти с тех военных трагических лет. Мы были тогда подлинно милосердными.
В.: Мансур Гизатулович, в шестьдесят семь лет человека уже не испортишь. Признаюсь, гляжу на вас с восхищением. Вы сильный, честный, любознательный, добрый. И талантом отметила вас природа: на работе – первый, талантливо воевали, впечатляюще о войне рассказали. Но ведь не все в человеке «от Бога», кому-то вы обязаны своим характером, своим взглядом на жизнь…
Мансур Гизатулович, 1990 год.
О.: Отцу. Умный, добрый и строгий был человек. К работе меня приспособил с десяти лет. Сам в шахту спускался, а я наверху коногонил – крутил барабанный привод у ствола шахты. На всю жизнь я запомнил отцовский урок воспитания. Конь был уросливый, злой – почувствовал слабосильного коногона – не слушается. Ну, я и пошел работать, как взрослый, – кнутом коня по боку и страшным голосом «в три господа мать!». Конь покорился. Я был доволен. Но вдруг чувствую: спину мне кто-то сверлит. Оглянулся – отец. В усмешке шевелит черный ус. Остановил коня. Мне подал бутылку молока с хлебом.
– Дай-ка мне вожжи…
Я обедал, а отец коногонил. И никаких громких слов, только слегка понукает коня, на коротких остановках ласково хлопает по загривку огромной ладонью. И я в свои десять лет понял: не руганью, лаской больше добьешься.
Отец был честен. На прииске ему доверяли принимать у старателей золото. Меня любил. Когда добровольцем я шел на войну – не отговаривал. Матери сказал: «Не плачь, Мансур вернется». Сам он погиб в шахте 12 ноября 1942 года, не дождавшись моего письма с фронта.
В.: Хотите сказать еще что-нибудь молодым?
О.: Скажу главное. В нечеловечески трудной войне мы защищали Отечество, наш общий дом. Сильны мы были великой общностью. И мы должны эту общность беречь. Только при этом условии мы осилим все трудности. Мы их осилим, как осилили в грозные сороковые годы.
Фото В. Пескова и из архива автора. 28 апреля 1990 г.
Бой – умная и опытная лайка-охотник. Весна и лето для Боя – время тягостного безделья: лежи, отгоняй мух и радуйся, если хозяин соберется куда-нибудь в лодке. Но чуть повеяло холодком, чуть забурелась листва на деревьях, Бой понимает: скоро, скоро начнется настоящая жизнь, а сядет хозяин почистить ружье, проверить патроны, починить сумку – Бой уже сам не свой, прыгает на окно, и в мыслях своих собачьих уже он в тайге, облаивает соболя, утопая в снегу, бежит за добычей…
Природа, что бы там ни было у людей, свое дело знает: плодятся соболи, зайцы, лисы, вызревают ягоды и кедрач. Этот древний «несеяный урожай» собирается, как и встарь, хождением по тайге. Забросят в избушку тебя вертолетом, можешь по радио, если приспичит, попросить помощь, но все остальное, как в старину – без хождений ничего не добудешь. Трудная, не для всех по силам, работа. Анатолий Георгиевич Коваленков, посланный на Камчатку охотоведом, знает цену хлебу охотника-промысловика. Сейчас он директор госпромхоза «Елизовский», хозяйства благополучного, крепко стоящего на ногах. Промысел рыбы и зверя, сбор ягод – основное дело хозяйства. Дело это хорошо ладится без ущерба природе, потому что Анатолий Георгиевич знает, сколько чего и как у тайги можно взять. Знает директор и цену таежных трудов, потому что сам промысловик опытный. Случается, отпуск берет он зимой, чтобы вместе со всеми оказаться в тайге. И не последним бывает он в числе самых лучших добытчиков – глаз зорок, ноги носят, как молодого, знает и любит леса Камчатки. А собака – половина успеха на промысле. «Я только подумал, а Бой уже знает, что делать», – хвалит любимца Анатолий Георгиевич.
Для охотника радость – не только охота, но и сборы в тайгу. И Бой эту радость переживает вместе с хозяином.
Фото автора. 15 ноября 1990 г.
Собака плыла с нами в лодке. При всяком удобном случае она выпрыгивала на берег и азартно бежала возле воды, не пропуская возможности на кого-нибудь гавкнуть. Иногда она замирала, поджав переднюю лапу, – что-то любопытное встретила. Бакланы на скалах, видя собаку, тоже от любопытства тянули шею. И сивучи, прыгнув в воду с камней, тоже выныривали взглянуть: что за зверь появился, надо ли его бояться или можно было спокойно греться на берегу? Любопытно было и человеку все это наблюдать, проплывая восточным боком Камчатки, и думать при этом не только о звере, но также о человеке, пришедшем сюда два с половиной века назад. Не сбросишь со счета погоню за дорогими мехами, но любознательность, любопытство – что там дальше за горизонтом? – тоже двигало человека.
Фото автора. 28 ноября 1990 г.
Пилот из Нома
Семь недель на Аляске
Непривычно и необычно лететь в Америку из Москвы не на запад, а на восток…
Петра Великого в конце его жизни занимала загадка: соединяется Америка с Сибирью или есть между ними вода? Снаряжались сюда две экспедиции. Ценою жертв и лишений было выяснено: пролив существует. Позже узнали: пролив неширокий – американские и чукотские аборигены бывали друг у друга в гостях. В ясный, погожий день с Чукотского мыса видно горы Аляски. Но ясных, погожих дней тут немного. Вот и теперь бухта Провидения затянута плотным туманом – не летают ни самолеты, ни комары. «Джим прилетит, – говорят мне в поселке. – Он по локатору может. Ас…» Заочно знают летчика и в Москве, где дают разрешения на перелет границы. Дело это отлажено. Летчик запрашивает из Нома, в Москве ему говорят «о’кей!» Надо лишь указать точное время перелета границы.
Зовут пилота Джим Роу. Готовясь лететь на Аляску, я так часто слышал это имя, что, кажется, хорошо уже знаю незнакомого человека. Тут, в чукотском поселке, Джим почти что герой. Он в самом деле прилетает в погоду, когда самолеты Аэрофлота стоят на приколе. И он не просто летчик, он – как бы посол Аляски. Побывал гостем во многих домах, привозил сюда жену с двумя ребятишками. Благодаря Джиму Роу бухта Провидения и аляскинский Ном к обоюдной радости породнились. И два года уже живут вдруг обнаруженной близостью и жгучим интересом друг к другу.