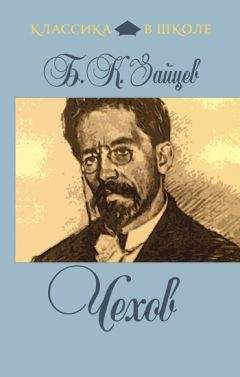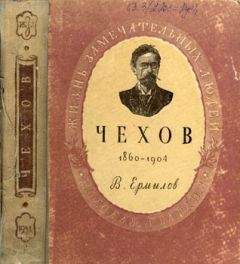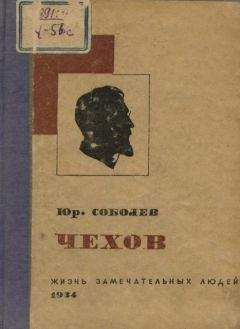к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет «сюжетов». («И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ»).
То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в «Чайке» и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине («страница 121, строки 11 и 12») — всё это очень любопытно, более же существенное начинается позже, в 98 г., после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы.
С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, повидимому, совпадает с Авиловой.
Возможно, что и сама болезнь 97 года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет.
В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 г. появился рассказ его «О любви». Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой (в этой полосе). Самой же ей рассказ просто пронзил сердце — когда читала его впервые, то «тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение». Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного: молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович любит некий Алехин — долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может. И она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию, она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет.
Авилова нашла в рассказе свои фразы. («Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну).
Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове: «Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь».
Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову (но в соседнем купе не сидел и не плакал, плачущим я его вообще не вижу). Но, действительно, больше она его не увидела.
Может быть, и была права, полагая, что «писатель как пчела, берет мед откуда придется» — в Чехове писатель, разумеется, был все. (Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики).
Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется нельзя.
Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так.
Нельзя назвать рассказ «О любви» изобразительным и ярким, но конец пронзает особою, чеховской нотой.
Помню его в Ялте, на скамеечке пред ночным морем (случайно увидел раз на набережной, он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море). Наверно понимал. Но говорить об этом не любил.
Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой» (99 г.), прелестном ялтинском порождении, вполне именно Ялтинском.
Выход дала жизнь.
* * *
Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по Московскому Литературному кружку, после смерти Чехова. Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое. Очень острая, с большим обаянием женщина. Может быть, остроту эту давала и примесь нерусской крови (венгерско-немецкой?), во всяком случае оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигентна, для актрисы довольно культурна, театру отдалась с юных лет — кончила Филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в Художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был царица Ирина, но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного и Лика преображенно присутствует в ней: «Три сестры» начаты тем летом 1900 г., когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и «в Москву, в Москву» самого Чехова (лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались), и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет «через двести, триста лет».
Осенью 1900 г., после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. «Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать». «…6-й или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо всё хвораю. Жар, кашель, насморк». «От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место Мандражи».
Он на десять лет старше «ее», знаменит, но болен, живет в этой Ялте как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а «она» в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет… «Уже отвыкать стала от меня. Ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе». «Целую тебя крепко, до обморока».
Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма, из Москвы в Ялту: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?». В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За «холод» и она его упрекала. Авилова тоже. Как и тогда, упрек в письме Книппер задевает его. «А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе»… — но всё же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. «Чужая душа потемки» — было в Чехове, наверно, всякое: и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Всё в нем нелегко, вернее — трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям.