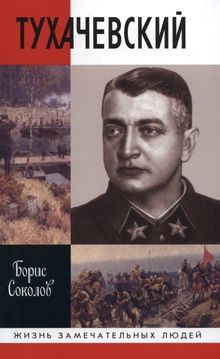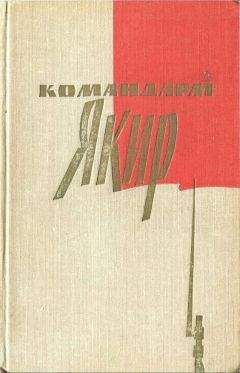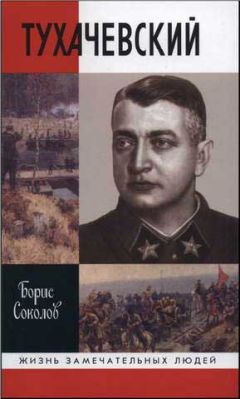Убедительным подтверждением, что выступление кронштадтцев не было «белогвардейским контрреволюционным мятежом», являются действия ушедшего в Финляндию тридцатитысячного гарнизона. Интернированные в лагеря Туркинсаари, мы были информированы советским послом Черных об амнистии, и в июне – июле 1921 г. более 80 % кронштадтцев вернулись на Родину К началу 1922 г. в Финляндии оставались единицы. Не случайно Ленин говорил о нас по-отечески «несчастные кронштадтцы».
Но на членов революционных троек кораблей, фортов и отдельных частей гарнизона упомянутая выше амнистия, как оказалось, не распространилась.
В числе 19 арестованных моряков был и я.
Вот имена товарищей, арестованных вместе со мной: Андрейченко Павел, Богданов Андрей, Брусникин, Гурьев Михаил, Ершов, Куркин, Кулышев Степан, Мартынов Владимир, Рассказов Матвей, Тюкин Степан, Лобанов, Белов Леонид, Захаров Александр, Федоров Яков, Федотов Василий, Юдин Владимир, Эвелькис Иван.
Больше года сидели мы в тюрьме на Шпалерной в Петрограде, ожидая решения нашей участи. За все это время нам не предъявили никакого обвинения, не вызывали на допросы. В конце концов мы объявили голодовку. Нас разместили в подвале тюрьмы по одиночным камерам. Осматривая свое новое «жилье», я обнаружил на стенке камеры нацарапанную чем-то твердым надпись: «Здесь сидел в ожидании расстрела член ревкома мятежного Кронштадта матрос с «Севастополя» Перепелкин. 27/III–21».
Нас выводили на пятнадцатиминутные прогулки, и во время одной из них я встретился с Васей Яковенко – так звала его на корабле братва. В знак солидарности с нами он тоже объявил голодовку. Яковенко рассказал, что вернулся в Россию осенью 1922 г. и ему предъявлено обвинение по 58-й статье, как государственному преступнику.
Через пять дней мы прекратили голодовку – нам, всем девятнадцати, был объявлен приговор: три года ссылки в Соловецкий концлагерь. Яковенко в этой группе не было, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Позже, уже на Соловках, нам рассказывали прибывшие в ссылку, что, будучи в Бутырской тюрьме, они слышали, что из Петрограда туда был доставлен под усиленным конвоем матрос, участник кронштадтского мятежа Яковенко. Скорее всего, его расстреляли.
В октябре 1923 г. нашу группу привезли в концлагерь Кемь, который служил как бы перевалочной базой по пути в Соловки, и разместили в дощатом бараке.
Как-то на прогулке возле барака мы познакомились с двумя анархистами, как мне помнится, по фамилии Мамай и Минский. Они прибыли из Соловков и направлялись по вызову в Москву. От них мы узнали о порядках, царивших в Соловках, причем они предупредили нас о главном: в Соловках существует два режима содержания заключенных, уголовные и политические содержались отдельно. Политические – в скитах Муксольма и Савватеевский, уголовники – в кремле. Политические к принудительным работам не привлекаются, а уголовники строят узкоколейку, ведут лесозагатовки и все хозяйственные работы, связанные с обслуживанием лагеря. Как правило, все прибывающие в Соловки, независимо от того, кто они, сразу направляются в лагерь уголовных преступников, а уж потом, после настойчивых требований политических направляют в «свой» лагерь. И, поскольку мы не уголовники, нам следовало требовать, чтобы нас сразу направили в лагерь политзаключенных с соответствующим режимом.
Учитывая полученную информацию, мы решили предпринять две акции. Во-первых, направили декларацию на имя ЦК партии, где четко определили свою политическую позицию сторонников советской власти. Во-вторых, написали заявление на имя начальника Соловецкого лагеря Эйхманса с требованием гарантировать нам режим политзаключенных, причем до получения положительного ответа мы категорически отказались выехать на Соловки. Три дня нас оставляли в покое, на четвертый пришел комендант лагеря и велел подготовиться к восьми вечера для отправки на Соловки. Мы ответили, что, поскольку нет ответа на наше заявление Эйхманса, мы отказываемся ехать. Комендант предупредил нас, что в случае отказа к нам будут приняты принудительные меры. Но мы снова категорически заявили, что, пока не будут удовлетворены наши требования, мы не подчинимся. В два часа дня к нам пришел комендант и заявил, что ответа от начальника Соловецкого лагеря не получено, но есть предписание доставить нас к месту назначения, и он еще раз предлагает приготовиться к отправке. Обсудив создавшееся положение, мы решили не сдаваться и оказать пассивное сопротивление – к семи вечера забаррикадировали входную дверь скамейками и заперли на засов, а сами, скинув бушлаты, в одних тельняшках образовали на нарах замкнутую живую цепь, погасили свет и стали ждать прихода конвоя. Около восьми вечера мы услыхали, что наш барак окружают, раздался стук в дверь и приказ: «Откройте!» Молчание. Снова: «Откройте!» И снова молчание. С третьим возгласом дверь была выбита прикладом, и в барак с бранью ворвалась ватага охранников. С большими усилиями им удалось оторвать нас друг от друга и перенести в кузов грузовика. У причала повторилась та же процедура – раздетых, нас перенесли в трюм парохода и туда же кинули наши бушлаты. На другой день утром пароход пришвартовался к Соловецкому причалу. Мы решили продолжить сопротивление, и я не могу не отметить единодушной стойкости всех товарищей. Вскоре к нам в трюм спустился человек в командирской форме в сопровождении двух охранников. С трудом выговаривая русские слова, он представился комендантом лагеря Ауге (немец) и сказал, что желал бы знать, выйдем ли мы сами или нас нужно выносить. Как староста группы девятнадцати я заявил, что если наше требование признать нас политзаключенными удовлетворено, то я дам команду надеть бушлаты и мы выйдем сами. Он твердо сказал: «Ваши требования удовлетворены и дано распоряжение направить вас в лагерь Мускольма». Я дал команду, и мы вышли на берег, откуда на нескольких подводах под усиленным конвоем направились в лагерь политзаключенных.
В лагере пребывало около трехсот человек: эсеры, меньшевики и довольно большая группа членов союза социалистической молодежи – оказывается, в то время существовал и такой союз. Лагерь был обычный: вокруг колючая проволока, по углам на вышках часовые с собаками, но вместо дощатых бараков здесь стояли одно– и двухэтажные дома. В одном из них разместились и мы в двух довольно просторных комнатах. Выходить за пределы лагеря строго запрещалось, но на территории лагеря гулять можно было круглые сутки.
Когда мы прибыли в лагерь, там сохранялись еще «досталинские» порядки: на поверку заключенные не выстраивались, лишь ежедневно утром и вечером староста докладывал о количестве заключенных. Одновременно сообщалось о больных, которым требовалась медицинская помощь. Больных на подводе отправляли в кремль, где находилось нечто вроде приемного покоя, при котором имелось несколько коек для стационарного лечения. Этот пункт обслуживал только политзаключенных.