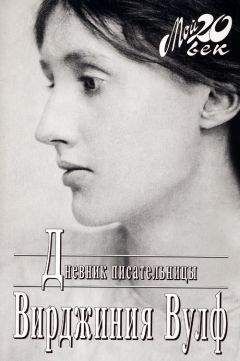«Волны»
Мужчина и женщина должны сидеть за столом и разговаривать. Или они молчат? Нужна любовная история; в конце она впускает в дом самого большого мотылька. Контрасты должны быть примерно такими: она говорит или думает о возрасте земли; о смерти человечества; а мотыльки продолжают прилетать. Возможно, мужчину стоит оставить как бы в тумане. Франция: слышно море; ночь; сад под окном. Однако это еще должно созреть. Я немного занимаюсь этим романом по вечерам под исполняемые на граммофоне поздние бетховенские сонаты. (Окна рвутся с задвижек, словно мы на море.)
Мы видели Виту, открывающую Готорнден[115]. Ужасное представление, на мой вкус: на возвышении никого из дворян — лишь Сквайр, Дринкуотер и Биньон — из всех нас; болтливые писаки. Господи! До чего же жалкими мы выглядели! Мы не могли делать вид, будто интересны кому-то, будто наша работа что-то значит. Само сочинительство вдруг стало бесконечно противным. Там не было никого, о ком я могла бы сказать, что он читал и ему понравилось или не понравилось написанное мной. Никому не было дела до моей критики; умеренность и обыкновенность авторов потрясли меня. Однако, возможно, движение чернил в них интереснее, чем внешний вид — аккуратный, умеренный, пристойный. Я чувствовала, что среди нас нет ни одного человека со зрелым умом. По правде говоря, это был непробиваемо скучный средний класс от литературы, а не ее аристократия.
Среда, 22 июня
Меня приводят в уныние люди, ненавидящие женщин, а Толстой и миссис Асквит — оба ненавидят женщин. Думаю, моя депрессия — форма тщеславия. В конце концов, таковы крайние мнения обеих сторон. Я ненавижу жесткий догматический пустой стиль миссис Асквит. Но хватит; о ней я буду писать завтра. Я каждый день пишу о чем-нибудь и по доброй воле посвятила несколько недель деланию денег, чтобы к сентябрю положить в наши карманы по пятьдесят фунтов. Это будут мои первые собственные деньги с тех пор, как я вышла замуж. Но у меня никогда, до последнего времени, не было в них нужды. Ведь я могу получить их, если захочу, и уклониться от писания ради денег.
Четверг, 23 июня
Этот дневник подтверждает, что в последнее время я почти не участвую в светской жизни. Никогда еще мне не приходилось так тихо проводить лондонское лето. На редкость легко ускользать из толкотни незамеченной. Все знают, что я инвалид, и никто меня не тревожит. Никто не просит что-нибудь сделать. Я тщеславно лелею чувство, будто это мой собственный выбор; ведь нет большей роскоши, чем хранить покой в самом сердце хаоса. Когда я с кем-то разговариваю и напрягаю мозги, потом у меня весь день угнетенное состояние и болит голова. Тишина дарит мне спокойные безмятежные быстрые утра, когда я делаю основную работу и проветриваю мозги во время прогулок. Вот уж отпраздную победу, если сумею этим летом ускользнуть от головной боли.
Четверг, 30 июня
Теперь я должна рассказать о Затмении.
Во вторник около десяти часов вечера несколько очень длинных поездов, полностью заполненных (наш — государственными служащими), покинули Кингс-Кросс. В нашем отделении были Вита, Гарольд, Квентин, Л. и я. Полагаю, это Хэтфилд, сказала я, куря сигару. Потом опять, это Питерборо, сказал Л. Пока не стемнело, мы не сводили глаз с нежно-бархатистого неба; одна звезда была над Алекзэндр-парк. Смотри, Вита, Алекзэндр-парк, сказал Гарольд. Николсоны задремали; Г. свернулся калачиком и положил голову Вите на колени. Она же, спящая, смотрелась как лейтоновская Сапфо; мы ехали дальше по центральным графствам Англии; сделали очень долгую остановку в Йорке. В три часа достали сэндвичи, и когда я вернулась из туалета, оказалось, что у Г. исчезло все масло. Потом он разбил фарфоровую коробочку для сэндвичей. Тут Л. стал смеяться и никак не мог остановиться. Потом мы опять спали, то есть спали Н. На железнодорожном переезде было много омнибусов и автомобилей, все с включенными бледно-желтыми фарами. Небо серело — но было бархатистым. В Ричмонд мы прибыли в три тридцать; было холодно, и Н. поссорились, как сказал Эдди, из-за багажа Виты. Мы забрались в машину и увидели большой замок (кто это делает, сказала Вита, принадлежит к тем, кто интересуется замками). На фасаде было лишнее окно и горел свет, как мне показалось. На лугах росла молоденькая июньская травка и растения с красными кисточками, которые казались белыми, а не красными. Белыми или серыми были и маленькие бескомпромиссные йоркширские фермы. Когда мы миновали одну, из дома вышли фермер с женой и сестрой в аккуратных черных платьях, словно они собрались в церковь. На другой уродливой квадратной ферме две женщины выглядывали из верхних окон, наполовину закрытых белыми ставнями. Мы представляли караван из трех больших машин, и одна остановилась, пропуская другие вперед; они были низкие и мощные; им предстояло одолеть очень крутые горы. Водитель вышел из машины и положил небольшой камень под колесо, но его оказалось недостаточно. Слава Богу, не случилось несчастья; ведь следом двигалось еще много машин. Их стало еще больше, когда мы взобрались на вершину Бардон-Фелл. Приехавшие разбивали палатки рядом с автомобилями. Мы вышли и обнаружили, что находимся очень высоко на пустоши с заросшими травой дорогами, где собралось уже довольно много народа. Мы присоединились к остальным, как оказалось, на самом высоком месте, с которого открывался вид на Ричмонд. Внизу горел один фонарь. Повсюду нашим глазам открывались долины и пустоши. Мне вспомнился Хейворт. Над Ричмондом, где поднималось солнце, висело пушистое серое облако. По пробивающемуся сквозь него золотому пятну мы легко определили его положение. Однако еще было рано. Пришлось ждать, притоптывая, чтобы не замерзнуть. Рэй завернулась в двуспальное одеяло с синими полосами. Она выглядела очень большой и домашней. Саксон постарел на глазах. Леонард все время смотрел на часы. Четыре огромных рыжих сеттера появились, прыгая, на пустоши. Они сторожили кормившихся неподалеку овец. Вита попыталась купить морскую свинку — Квентин посоветовал дикую, — и она посматривала на животных. В облаках наметились узкие трещины и довольно большие дыры. Вопрос заключался в том, увидим мы затмение солнца через облако или на чистом небе. Нас охватило возбуждение. Из-под облаков показались солнечные лучи. Потом, всего мгновение, мы видели солнце — казалось, оно быстро и без помех плывет в бездне; мы схватились за специальные очки; мы видели горящий огнем серп; в следующий момент оно опять зашло за облако; от него остались лишь красные ленты; потом золотистый туман, который случается довольно часто. Шло время. Мы решили, что нас обманули; посмотрели на овец; они не выказывали страха; вокруг бегали сеттеры; люди стояли длинными шеренгами и с чувством собственного достоинства смотрели вверх. Мне показалось, что мы — древние люди, свидетели рождения мира — друиды из Стоунхенджа (правда, эта мысль стала ярче, когда появился первый бледный свет). За нашими спинами в облаках прятался беспредельный синий простор. Все еще синий. Потом он как будто начал линять. Облака бледнели; стали красновато-черного цвета. Внизу, в долине, началась потрясающая битва красного и черного цветов; все так же горел один фонарь; все было затянуто облачной пеленой, очень красивой, с тонкими прожилками. Сквозь нее мы не могли ничего разглядеть. Миновали двадцать четыре секунды. Все обернулись посмотреть на синее небо; и очень быстро, на самом деле очень-очень быстро, цвета потускнели; стало темнеть; и темнело, словно перед сильной бурей; свет тонул и тонул; мы повторяли — это тень и думали, что все закончилось, — это тень; когда неожиданно света не стало. Мы сникли. Солнце погасло. Стояла сплошная тьма. Земля была как мертвая. Удивительное мгновение, и следующее тоже, а потом, словно отвязался шар, облако опять обрело цвет, искрящийся небесный цвет, и опять стало светло. У меня появилось, когда стемнело, очень сильное чувство благоговения, я словно упала на колени, но вскочила, когда краски вернулись.