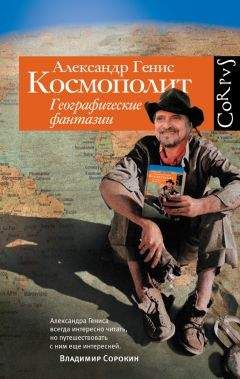И все же содержимое довлатовского чемодана – не только повод для повествования. Все эти поплиновые рубашки, креповые носки и номенклатурные ботинки одевают героя, как бинты – человека-невидимку: благодаря им он становится видимым.
Конечно, мы знали его и раньше, но – другим. Заново разыгрывая партитуру своей биографии, Довлатов незаметно сменил угол зрения. Про эмигрантов в “Иностранке” Сергей писал злее, чем про партийных функционеров в “Чемодане”.
В Америке время превратилось в пространство, отделившее настоящее от прошлого Атлантическим океаном. Вид на него оправдывал довлатовский сантимент – слова Блока, вынесенные в эпиграф: “Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне”.
С проведенными в эмиграции годами советская власть стала не лучше, но веселее.
6
Если “Чемодан” напоминает кроссворд, то “Наши” – чайнворд. Вписывая родичей в вакантные клеточки, автор получает заранее известный ответ – себя.
Создавая персональный миф “крови и почвы”, Довлатов начал родословную фигурами вполне эпическими. Его написанные в полный – семифутовый – рост деды с трудом удерживаются на границе, отделяющей портрет от аллегории. Буйные, как стихии, они оба могучи, но по-разному.
Выпивший лавку и съевший закусочную Исаак – карнавальная маска, ярмарочный силач, живая утроба: “Куски хлеба он складывал пополам. Водку пил из бокала для крем-соды. Во время десерта просил не убирать заливное…”
Угрюмый дед Степан силен, как скала, постоянством. Даже смерть лишь с трудом стерла его с лица земли: “Дома его исчезновение заметили не сразу. Как не сразу заметили бы исчезновения тополя, камня, ручья…”
Эти два богатыря дополняют друг друга, как вода и горы, смех и слезы, жизнь и смерть. Если один, не задавая вопросов, принимает мир, второй отказывает ему в одобрении необъясненным молчанием: “Возможно, его не устраивало мироздание как таковое? Полностью или в деталях? Например, смена времен года? Нерушимая очередность жизни и смерти? Земное притяжение? Контрадикция моря и суши? Не знаю…”
В каждом из легендарных предков отражается, естественно, сам Сергей. От одного деда он унаследовал сложные отношения с мирозданием, от другого – аппетит. “Сегодня мы приглашены к Домбровским, – напоминает автору жена. – Надо тебе заранее пообедать”. (В газетной публикации вместо абстрактных Домбровских упоминались конкретные Вайли. Но в книге Сергей, следуя сложным изгибам своих привязанностей, заменил фамилию. Со мной было хуже. В “Соло на ундервуде” есть запись: “Генис и злодейство – две вещи несовместные”. Во втором издании к этому каламбуру Сергей сокрушенно добавил: “Как я ошибался”. В третьем комментарий исчез, и теперь только запойные библиофилы могут проследить за взлетами и падениями моей репутации.)
Сражавшиеся с революцией и природой дюжие деды Сергея врастают в родную землю корнями, из которых протянулось в Америку генеалогическое древо довлатовского рода. Исследуя его ветви, Сергей превратил каждую главу фамильного альбома в назидательные притчи – о Честном Партийце, о Стихийном Экзистенциалисте, о Здоровом Теле и Нездоровом Духе, о Процветающем Неудачнике, о Грамматических Ошибках, о Кошмаре Невозмутимости.
Не теряя чудной индивидуальности, довлатовские герои воплощают архетипические черты.
Это значит, что Сергей так сочно описал взбалмошную семью, что она перестала быть его собственностью. Довлатовскую родню хочется взять напрокат – в его родственников можно играть.
Как и остальные сочинения Довлатова, “Наши” – книга эгоцентрическая. Но если раньше Сергей изображал других через себя, то тут он через других показывал себя.
Я думаю, в “Наших” Сергей искал доказательств генетической неизбежности своей судьбы. Не мечтая от нее уйти, он надеялся принять ее не как возможное, а как должное. Раньше Довлатова интересовало происхождение писателя, теперь – просто происхождение. “Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят”.
Добившись признания, Сергей завоевал свободу жить, как ему нравится. Но он хотел, чтобы ему нравилось, как он живет.
1
“Зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно?” Пушкину было все равно, нам – нет. Мы знали, что от народа зависеть хуже. Цари бывают разными. Их можно обмануть, и ими можно обмануться. Публика же редко обманывает ожидания. Особенно в эмиграции, где ее так мало, что для многих авторов испытание рынком кончается летальным исходом.
Рынок в конечном счете погубил и все наши издательские начинания. Так никто у нас толком и не научился обменивать слова на деньги. Не исключено, что это невозможно вовсе. Всякая духовная ценность иллюзорна. Она только притворяется товаром. Слова бесценны, и принадлежат они, как эхо, всем, до кого доносятся.
Впрочем, у Марка Твена был персонаж, который коллекционировал эхо. Бизнесмены, с которыми нам приходилось иметь дело, пытались им торговать. Они пугали меня больше всех, кого мне довелось встречать в жизни. Вспоминая их, я забываю улыбаться.
Конечно, мы тут виноваты не меньше, чем они. Приехав из страны, где блат заменял рынок, мы представляли себе дельцов по Аркадию Гайдару – с бочкой варенья и корзиной печенья. Считая, что богатые любят деньги, мы надеялись, что нас будут эксплуатировать. Пролетарии умственного труда, мы лихорадочно искали таких хозяев, которые бы оставили нам наши тачки.
Наверное, такие тоже бывают. Сулцбергер, владелец “Нью-Йорк таймс”, настолько боялся вмешиваться в ход газетных дел, что воздействовал на свою редакцию, посылая письма под псевдонимом. И то лишь до тех пор, пока его не опознал и не высмеял редактор – собственная внучка.
Эмигрантские бизнесмены были слишком сложными натурами, чтобы интересоваться только бизнесом. Мы мечтали о Чичикове, нам попадались Ноздревы.
Зараженные нашим энтузиазмом, вокруг газеты под видом бизнесменов вились неудавшиеся художники с новенькими дипломатами. Все они хотели быть не хозяевами, а соавторами. Они уважали наш труд – не настолько, чтобы его оплачивать, но настолько, чтобы делить его с нами. Они всегда говорили от лица народа и лучше нас знали, что нам делать. Их увлекала не прибыль, а собственное творческое горение. Корыстолюбия хватало им лишь на то, чтобы нас обсчитывать.
При виде хозяев я запирался в уборной. И правильно делал, потому что претензии их, как воля богов, бывали неизъяснимы и неописуемы. Первый хотел, чтобы мы воспевали еврейский героизм, второму нравились картинки, третий требовал, чтобы от наших статей “у комсомольцев стояло”.