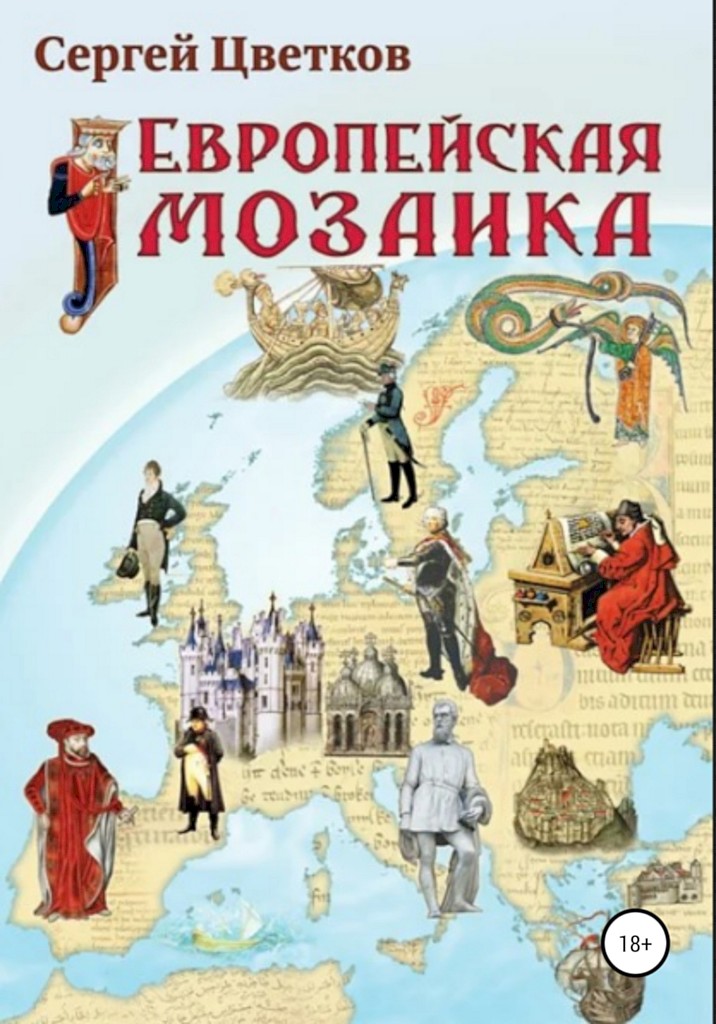износился и обветшал, новый еще не тронут. Америке нужны сильные руки; Европе, старой, беззубой, с ее центром, вечно обновляющимся Парижем, нужны развитые умы. Куда же мы пойдем? Физической силой похвалиться мы не можем. Конечно, до Орфея мне далеко, но все-таки я думаю, что слово окажется более сильным орудием в моих руках, чем кинжал. Ловкий софизм имеет более шансов на успех в среде старого общества, чем проповедь с оружием среди диких народов. Прежде чем принять окончательное решение, следует подумать. Не мешает также посоветоваться и с желудком и принять в расчет его пищеварительные способности: я нисколько не желаю пробовать человеческого мяса и голодать тоже не хочу, тем более что я почти уверен, что, пользуясь всеми припасами, доставляемыми цивилизацией, я сумею здесь состряпать себе очень порядочный обед.
— Вы изнеженный византиец, и больше ничего, — отвечал Лугин.
Лугина все побаивались за его смелые поступки и слова. Он не щадил порока, и иногда его меткие остроты бывали направлены против высокопоставленных лиц. Поэтому его решение выйти в отставку было принято с затаенным удовольствием: препятствий не оказалось никаких, напротив, все спешили уладить поскорее. Что касается меня, то мое прошение об отставке было удовлетворено без всяких хлопот.
Итак, наше общественное положение уравнялось, и мы могли жить вместе, тесно соединенные общей умственной жизнью. Теперь оставалось ждать удобной минуты для отъезда, а покуда время проходило для меня как нельзя более приятно. Прежние друзья были забыты для Лугина: я совершенно подчинился ему и был счастлив. С утра я приходил к нему, и мы решали, как проводить день. Чаще всего мы отправлялись за город или же садились в лодку и катались по заливу. С собою мы брали книги, провизию, чай и самовар. Лакей поил нас чаем, он же был и гребцом. Иногда мы высаживались на Крестовский остров и там отдыхали под соснами; иногда ездили в Екатерингоф, и там, под березами, Лугин рассказывал интересные подробности о преобразователе России и его преемниках.
В одну из таких прогулок Лугин, который, как все русские, говорит на всех языках, прочел вслух третью песнь «Чайльд Гарольда», которая только что появилась тогда в Петербурге. Он читал очень хорошо и сразу переводил прочитанное на французский язык. Бледная северная природа вполне гармонировала с печальным тоном рассказа. Лодка тихо покачивалась; серое небо отражалось в волнах залива. Нами овладевало тихое, грустное раздумье. Сколько раз впоследствии, размышляя о судьбе моего друга, я мысленно возвращался к этому дню! Этот поэт, презиравший стихи, философ, не раз повторявший слова Паскаля, что смеяться над философией есть лучший способ философствовать, космополит, отдавший свою жизнь за свободу чужого отечества, — разве не был он русским Байроном, отправившимся искать свою «могилу воина»? Или, быть может, в нем сказалась душа его народа, растворившего, расточившего себя в огромных пространствах своего отечества?
Лето было уже на исходе; наступило время подумать об отъезде. Мы отправились в Кронштадт осведомиться о судах, отходивших во Францию или в Англию.
Трехмачтовый корабль «Верность» из Дьеппа, нагруженный салом, готовился к отплытию в Гавр; мы условились о цене, и два дня спустя, 22 сентября 1816 года, в два часа пополудни, мы вышли из гавани в хорошую погоду и с попутным ветром.
Два года назад я въезжал в ту же самую гавань, полный надежд, которым не суждено было исполниться. Но я провел счастливо эти два года и теперь уносил с собою много дорогих воспоминаний.
Когда корабль вышел из гавани, мы, стоя с Лугиным на палубе, посылали последний привет отцу его, который с вала слал нам свое благословение, осеняя крестом все четыре стороны света. Сын был, видимо, взволнован, но и тут не мог удержаться от шутки.
— Вот добрый отец-то! — сказал он. — Еду я вследствие финансовых соображений, а он хочет показать дело в ином виде. Ну что ж, я ему благодарен: для меня он нарушил свои привычки. Я тоже теперь, разлучаясь с ним, чувствую что-то вроде сожаления. Я полагаю, что эти грустные предчувствия у меня оттого, что он уж слишком расщедрился на прощанье. Помилуйте! Двадцать пять бутылок портеру, двадцать пять бутылок рому, пуд свечей и даже лимоны!.. Правда, он долго не хотел покупать лимонов, но понял, что ром и портер дешевле в Кронштадте, чем в Петербурге. Ему это удовольствие! Да, скупой отец даже готов на подарки, если только есть случай при этом выгадать копейку… Ну а что касается свечей, тут уж я не понимаю… Разве только он, как настоящий русский барин, хочет доказать французам превосходство нашего осветительного материала? Ведь это чистый воск! Жаль: теперь я начинаю понимать, что с ним можно было столковаться. Да, я не так повел дело!
Наше скучное, опасное плавание продолжалось почти месяц. Едва только прошли мы Зунд, как поднялась буря. Матросы выбились из сил, в корабле оказались повреждения, и мы принуждены были искать убежища в одной из природных бухт, образуемых утесистыми берегами Норвегии. Здесь мы были в безопасности от бурь, но могли умереть от скуки, если б не Лугин с его неистощимым запасом остроумия и веселости. Не находя в окружавших его предметах пищи для сарказма, он обращался к своим воспоминаниям и там отыскивал что-нибудь достойное осмеяния или же угощал меня сентенциями вроде:
— Помните, мой друг, что говорил Бенджамин Франклин: бедность, стихотворство и погоня за званиями делают человека смешным.
Когда же серьезность возвращалась к нему, тогда начиналась отважная работа мысли. Его образование благодаря разнообразию элементов, входивших в его состав, было довольно поверхностно, но он дополнял его собственным размышлением. Его философский ум обладал способностью на лету схватывать полувысказанную мысль, с первого взгляда проникать в сущность вещей, понимать настоящий смысл и связь явлений как в природе, так и в жизни общества и, восходя сам собою до коренных начал всего существующего, приводить все в стройный порядок. Он был самостоятельный мыслитель, доходивший до поразительных по своей смелости выводов. Впрочем, меня они не смущали; напротив, они давали опору моим собственным воззрениям, которые не всегда были согласны с его мнением.
Наш корабль починили, мы снова пустились в путь и после двух недель более ничем не примечательного плавания наконец увидали Гавр при свете заходящего солнца. Я не сумею передать того чувства, которое охватило меня в ту минуту, когда корабль остановился в гавани. Сердце замирало; я ничего и никого не видел. Лугин говорил что-то, я не слышал того, что мне говорили. Это бессознательное состояние продолжалось до тех пор, пока я не