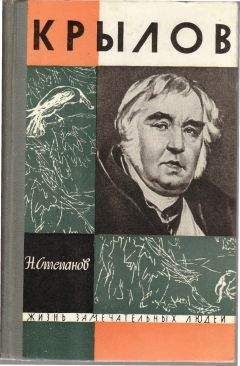Время проходило в разговорах, а о чтении не было и речи. Наконец Гаврила Романович, задумчиво ходивший взад и вперед по гостиной, не слушая споров, уселся за стол и объявил, что пора уже приступить к делу. «Начнем с молодежи, — сказал А. С. Хвостов. — У кого что есть, господа?» Все переглянулись и в один голос ответили, что ничего не взяли с собой. «Как же вы идете без всякого оружия?» — рассмеялся Хвостов. Шулепников ответил, что может прочесть свои стихи «К трубочке». «Ну, хоть „К трубочке“, — подхватил Захаров, — стишки очень хорошие!» Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов «К трубочке», но не произвел никакого впечатления. «Пахнет табачным дымком», — шепнул своему соседу Карабанов.
Наступило молчание. «А вы не слышали, — сказал князь Шаховской, — что Иван Андреевич написал еще одну новую басню, да притаился, злодей!» С этими словами князь поклонился в пояс Крылову. Толстый, неуклюжий, он проделал это так быстро и ловко, что все рассмеялись. «Батюшка Иван Андреевич, будьте милостивы до нас, бедных! — молил Шаховской, изображая сестру Шехерезады. — Расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать!» Все дружно приступили к Крылову, и после долгих отнекиваний он, наконец, разрешился басней «Крестьянин и Смерть». Простота и верность рассказа, точность подробностей русского быта всех восхитили. Крылов читал, как жаловался крестьянин:
«Куда я беден, боже мой!
Нуждаюся во всем, к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк…
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?»
Жихарев заметил: «Какие прекрасные стихи!» А про заключительные строки басни сказал, что они стоят Лафонтенова стиха: «Plutôt souffrir que mourir».
Что как бывает жить не тошно,
Но умирать еще тошней!
Все стали поздравлять Крылова.
Следующий литературный вечер состоялся через неделю на дому у Державина. Гаврила Романович сидел в коротком овчинном тулупе (ему было всегда холодно) с Бибишкой за пазухой, насупившись и свесив губы. Он был похож на старую нахохлившуюся птицу. Но лишь разговор заходил о поэзии, Державин воодушевлялся, колпак его сползал набекрень, глаза приобретали блеск, и он горячо ораторствовал перед собравшимися. Начался вечер с чтения стихов самого хозяина, написанных по случаю выступления в поход гвардии.
Стихи были слабые. То ли талант изменил поэту, то ли случай для стихов был недостаточно значителен.
После короткого перерыва сенатор и переводчик Иван Семенович Захаров вынул из портфеля претолстую тетрадь и пригласил всех прослушать перевод нравоучительных правил Рошфуко, сделанный, некиим Пименовым. Однако суровый адмирал без церемоний объявил, что он не охотник до этих нарумяненных французских моралистов, все достоинство которых заключается в одном щегольстве выражений.
«Все это так, — миролюбиво согласился А. С. Хвостов и обратился к Шихматову, — однако же пора вам, князь, познакомить нас с вашими „Пожарским, Мининым и Гермогеном“. Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее не должно». — «Я и не думал отговариваться, — возразил Шихматов, — я сочинил мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле…» Развернув объемистую рукопись, князь приготовился было читать, но адмирал не дал ему рта раскрыть, схватил тетрадь и сам начал чтение. Поэма была проникнута казенно-патриотическим духом и повествовала о чудесном спасении дома Романовых, восторженно прославляя прелести самодержавия. Это был набор трескучих, возвышенных фраз, одическое пустозвонство, перенасыщенное восторгами в честь царей дома Романовых. Посвящалось сие высокоторжественное изделие императору Александру.
Когда длительное, всех утомившее чтение закончилось, стали хвалить автора и пророчить ему славное будущее. Шишков особенно восторгался славяно-росским слогом, которым написана была поэма. Седой, багроволицый адмирал велеречиво расхваливал Шихматова за то, что тот не только не употреблял чужеземных оборотов, но возвысил слог свой важностию славянского наречия: «древний славянский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка».
Крылов ничего не прочел, сколько его о том ни просили. Извинялся, что нового не написал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Зато бесталанный Федор Львов прочитал стихи свои «К пеночке». Эти стишки возбудили спор. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение «драгая» вместо «дорогая» и сказать «крыло», когда надобно было бы сказать «крылья». За Львова вступился Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем, что слово «драгая» вместо «дорогая» может и в легком слоге быть допущено. Этот спор был неприятен для самолюбивого поэта, который то и дело посматривал на Крылова, как-то насмешливо улыбавшегося.
«А знаете ли вы, — спросил Шулепников у Жихарева, — стихи графа Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» Однако всезнающий Жихарев должен был признаться в своей неосведомленности. «Ну, так я вам прочитаю их, не потому, что они заслуживают внимания, а для того, чтобы вы имели понятие о сатирическом таланте нашего стихоткача. Всего забавнее было, что граф выдал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами». И Шулепников вполголоса прочел эти стихи Хвостова:
Небритый и нечесаный.
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил — Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?
Жихарев взглянул на Крылова. Тот был не брит. Галстук съехал в сторону.
«Крылов тотчас же угадал стихокропателя, — продолжал, улыбаясь, Шулепников. — „В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь“, — сказал он».
За ужином разговорились о Российской академии. «А сколько считается теперь всех членов?» — спросил Державин у секретаря академии Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти». — «Неужто же нас такое количество? — удивился Шишков, — я думал, что гораздо менее». — «Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые…» «Не любят грамоты!» — подхватил А. С. Хвостов. Все рассмеялись. «Правда, что иные точно бесполезны, — согласился Шишков, — втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем, как много писателей достойных не заседают еще в академии».