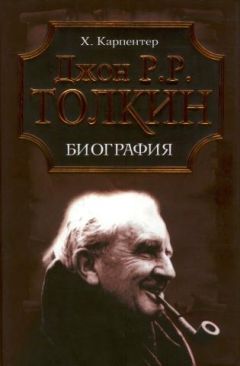Столь же чувствителен был Толкин и к ущербу, причиненному оксфордширским пейзажам строительством аэродромов военного времени и «улучшением» дорог. С возрастом, когда его наиболее стойкие убеждения начали превращаться в одержимость, он, увидев новую дорогу, срезавшую край поля, восклицал: «Вот и пришел конец последней английской пашне!» Но к тому времени он уже утверждал, что в стране не осталось ни единого неизуродованного леса или холма, а если и осталось, то он бы туда не пошел, из опасения увидеть, что и его успели замусорить. И при этом жить он предпочитал среди почти исключительно рукотворных ландшафтов, в пригородах Оксфорда, а позднее Борнмута, почти таких же «бестолковых», как краснокирпичный лабиринт, бывший некогда Сэрхоулом. Как же примирить эти два факта?
И снова отчасти все объясняется обстоятельствами. На самом–то деле Толкину не приходилось особенно выбирать, где жить: просто он по ряду причин бывал вынужден поселиться в том или ином месте. Пусть так; но отчего же тогда его душа не протестовала против этого? На это можно сказать, что временами все же протестовала: он жаловался и вслух, немногим близким друзьям, и втайне, в своем дневнике. Но все же по большей части Толкин, похоже, не возражал — и, видимо, объяснением этому служит его вера в то, что все мы живем в падшем мире. Если бы мир не пал и человек не был бы грешен, он сам благополучно провел бы детство вместе с матерью в раю, в который превратился в его воспоминаниях Сэрхоул. Однако мирская злоба разлучила его с матерью (ибо Толкин в конце концов начал верить, что мать его умерла из–за жестокости и черствости своей семьи), а теперь вот даже земля Сэрхоула бездумно загублена. В таком мире, где совершенство и истинное счастье все равно невозможны, имеет ли значение, где именно жить, во что одеваться и чем питаться (лишь бы еда была попроще)? Все эти несовершенства — временные и к тому же преходящие. В этом смысле то был глубоко христианский и аскетический подход к жизни.
Существует и другое объяснение этого на первый взгляд небрежного отношения к внешним условиям существования. К тому времени как Толкин достиг зрелости, его воображение уже не требовалось подстегивать внешними впечатлениями — точнее, все необходимые ему впечатления уже были получены в детстве и в юности, в годы, полные событий и смены пейзажей; и теперь оно могло питаться одними воспоминаниями. Вот как объяснял это сам Толкин, описывая процесс создания «Властелина Колец»:
«Такие истории пишутся не благодаря созерцанию листвы деревьев, которые сейчас рядом с тобой, и не благодаря знанию ботаники и почвоведения; нет, они прорастают, подобно семечку в темноте, из лиственного перегноя, накопившегося в уме, — из всего, что было когда–то увидено, передумано или прочитано, что давным–давно забыто и ушло вглубь. Хотя, несомненно, отбор идет, так же как у садовника: не всякая травка попадает в твою личную компостную кучу; и мой перегной состоит в основном из различного языкового материала».
Листьям и стеблям приходится долго разлагаться, прежде чем они смогут удобрить собою почву, и Толкин говорит здесь, что питал семена своего воображения почти исключительно ранним опытом, достаточно перемолотым временем. Новые впечатления были не нужны — он к ним и не стремился.
Похоже, нам удалось–таки кое–что узнать о Толкине, разглядывая старые фотографии. Возможно, стоит попытаться перейти от рассматривания его внешности и того, что его окружало, к другой внешней характеристике, его голосу и манере изъясняться. С юных лет и до конца жизни Толкин отличался, чтобы не сказать «славился», быстротой и невнятностью речи. Было бы совсем нетрудно преувеличить эту черту, превратив его в комического профессора, что–то бормочущего себе под нос. В жизни дело обстояло не совсем так. Толкин и впрямь говорил быстро и не очень отчетливо, но привычному слушателю не составляло особого труда понимать все или почти все. И проблема была не столько физического плана, сколько интеллектуального. Толкин так стремительно перескакивал от одной идеи к другой и вставлял в свою речь такое множество аллюзий, предполагая, что слушателю известно столько же, сколько ему самому, что все, кроме тех, кто обладал столь же обширными познаниями, попросту терялись. Не то чтобы привычка говорить чересчур умно простительнее привычки говорить чересчур быстро, и Толкина, конечно, легко обвинить в том, что он переоценивал умственные способности своих слушателей. Можно также предположить, что Толкин и не стремился изъясняться понятно, поскольку на самом деле беседовал сам с собой, озвучивая собственные мысли и не пытаясь завязать настоящий диалог. В старости, когда Толкин оказался почти лишен интеллектуального общества, так зачастую и случалось. Он попросту отвык от разговоров и приучился к длинным монологам. Но даже тогда его можно было вызвать на настоящий спор, и он всегда готов был слушать собеседника и с энтузиазмом отвечать ему.
На самом деле Толкин никогда не принадлежал к числу настоящих эгоцентриков, людей, которые желают слушать только себя — и никого другого. Толкин умел слушать и всегда с готовностью отзывался на чужие радости и беды. В результате, несмотря на то, что во многих отношениях Толкин был весьма застенчив, он легко сходился с людьми. Он мог завязать беседу с беженцем из Центральной Европы в поезде, с официантом в любимом ресторане, с коридорным в отеле. В компании простых людей он всегда чувствовал себя уютно. Толкин рассказывал о поездке по железной дороге в 1953 году, когда он возвращался из Глазго после лекций по «Сэру Гавейну»: «От Мотеруэлла до Вулвергемптона я путешествовал в обществе молодой матери–шотландки с крошечной дочуркой, которых я избавил от стояния в проходе переполненного поезда. Я сказал контролеру, что порадуюсь их соседству, и им разрешили ехать первым классом без доплаты. В благодарность на прощание меня известили, что, пока я отходил перекусить, малышка заявила: «Этот дядя мне нравится, только я его ну совсем не понимаю». На это я смог только неуклюже ответить, что на второе все жалуются, а вот первое далеко не столь распространено».
В старости Толкин заводил дружбу с таксистами, чьи машины он нанимал, с полицейским, дежурившим на улице рядом с его коттеджем в Борнмуте, со скаутом из колледжа и его женой, которые обслуживали его в последние годы. И в этих дружеских отношениях не было и тени снисходительности с его стороны. Толкин просто любил общество, а эти люди оказались ближе всего. При этом он отнюдь не оставался глух к классовым различиям; напротив. Но именно благодаря тому, что Толкин был уверен в своем собственном общественном положении, он не кичился ни интеллектуальным, ни классовым превосходством. Его взгляд на мир, согласно которому каждый человек принадлежит или должен принадлежать к определенному «сословию», не важно, высокому или низкому, в определенном отношении делал его старомодным консерватором. Но зато он же заставлял его относиться с состраданием к ближним своим — ведь именно те, кто не уверен в своем месте в мире, вечно чувствуют необходимость в самоутверждении и ради этого готовы, если понадобится, затоптать всех остальных. Выражаясь современным жаргоном, Толкин был «правым» — в том смысле, что он чтил своего монарха, свою страну и не верил в народовластие; но он выступал против демократии просто потому, что не считал, будто его ближние от этого выиграют. Он писал: «Я не «демократ», хотя бы потому, что «смирение» и равенство — это духовные принципы, которые при попытке механизировать и формализовать их безнадежно искажаются, и в результате мы имеем не всеобщее умаление и смирение, а всеобщее возвеличивание и гордыню, пока какой–нибудь орк не завладеет кольцом власти, а тогда мы получим — и получаем — рабство». Что же до добродетелей феодального общества на старинный лад, вот что он однажды сказал о почтении к высшим: «Обычай снимать шапку перед вашим сквайром, возможно, чертовски вреден для сквайра, зато чертовски полезен для вас».