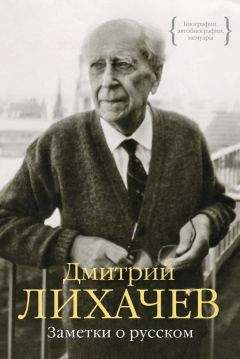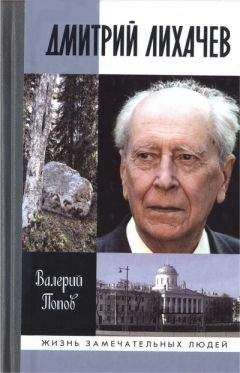Эта мысль о стиле писания как о продолжении стиля поведения может быть продолжена на примере Аввакума. Но не есть ли стиль поэзии – трансформация стиля поведения: Маяковский, Есенин? Даже Пушкин с его культом дружбы в жизни отразил его в стиле своих дружеских посланий, в обращениях к друзьям.
Кстати, не потому ли так близок нам Пушкин, что его культ дружбы нам очень и очень импонирует, и именно в наше время. Мы, современники, как-то малодружны. А дружба приносит нравственное очищение. Даже прикосновение к чужой дружбе – дружбе Пушкина.
Я вспоминаю «театр одного актера» – Владимира Яхонтова. С каждого его чтения я уходил потрясенным; долго звучали в душе яхонтовские интонации. И одно из самых больших моих впечатлений от чтения Яхонтова было чтение им всего текста «Евгения Онегина». Два вечера он читал «Онегина» в Эрмитажном театре. Было это перед самой войной.
Конечно, он не просто читал Пушкина. Он играл Пушкина. И особенно поразительна была его игра Татьяны. Какой идеально женственной, умной, скупой на выражение своих чувств предстала Татьяна! Можно было влюбиться в Татьяну Ларину в истолковании Яхонтовым, в ее изображении Яхонтовым. По-моему, еще никто и никогда не замечал, что мужчина может влюбиться в образ женщины, созданный актером. А ведь это так бывает.
К чему я это говорю? Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем, что это театр слова и мысли. Есть театр ситуаций, театр сюжетов, театр настроений, театр мысли, театр театра (вспомним мысли Николая Николаевича Евреинова). Театр слова – один из самых трудных видов театра. Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, ни на минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении и в каждом его отдельном слове.
Владимир Рецептер тоже представляет «театр одного актера». Его опыт чисто словесного изображения крайне важен. И его предложение создать театр Пушкина – театр, где ставился бы Пушкин, один Пушкин по преимуществу, – не только «интересно» и «своевременно» (эти два слова обычны в одобрениях подобных предложений), но и умно, ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию – в драматургической, лирической или эпической форме. Опыт пушкинского театра был бы крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик. Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. В. Рецептер не предлагает воссоздать «театр одного актера». Он предлагает нечто иное, но в чем-то близкое: создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина, и в игру разных актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязки.
Театр пушкинского слова насущно необходим.
Б. В. Томашевский называл «паразитическими ассоциациями» попытки видеть за любовными стихами Пушкина узко биографические факты (о какой именно женщине идет речь в том или ином стихотворении – о Ризнич, Керн, Воронцовой или еще о ком-то). Бывает и литературоведение, работающее на эти «паразитические ассоциации», – литературоведение сплетников. Любимые темы этого литературоведения – смерть Пушкина, любовь Пушкина, Наталия Николаевна и ее сестра Александрина и пр. Увы, этим интересовалась и Ахматова, но Ахматова-дама (при этом ревнующая Пушкина), а не Ахматова-поэт. Второстепенными писателями эти ученые-сплетники обычно не занимаются: важно низвести до себя только великих.
Сколько раз Пушкину пришлось бы вступаться за честь Наталии Николаевны и вызывать на дуэль различных любителей копаться в его семейной жизни. А ведь хуже всего то, что стихов-то Пушкина не знают. На «встрече» со мной во Дворце молодежи в Ленинграде я рискнул и спросил собравшихся (зал был полон): «А кто написал „Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…“?» Вопрос мой был задан после того, как минут десять перед тем я сказал, что поэзии Пушкина не знают, интересуются только «личностью» Пушкина, то есть его биографией. Из зала посыпались ответы: Плещеев, Державин и т. д.
Если бы Шекспир ожил, он был бы поражен обилием вполне глубокомысленных толкований его драм («Гамлета», например). Но истинно гениальное произведение всегда допускает различные толкования, иные из которых, возможно, идут гораздо дальше осознаваемого автором замысла. Каждая эпоха дает нового Пушкина. Каждый крупный поэт России имеет своего Пушкина.
Экскурсовод в Тригорском у дуба читает пушкинские слова: «…повесил я цевницу…» Девочка спрашивает: «А где цевница теперь?» И вдруг мальчишеский голос: «Что ты, дура, не знаешь? Тут немцы были – они и вывезли».
А сейчас С. С. Гейченко обмотал дуб анодированной (под золото) цепью: очевидно, чтобы не спросили: «Кто спер „златую цепь на дубе том“?» – и мальчишка бы не ответил: «Спросите Пушкина».
* * *
В «Горе от ума» неподвижное искусно противопоставлено подвижному. Чацкий – воплощение подвижности, и к Фамусовым он попал из путешествия. Репетилов – пародия на Чацкого. У него «мелкая подвижность»: шум без дела, неподвижность, имитирующая подвижность. Друг Чацкого в прошлом – Платон Михайлович – воплощение неподвижности в настоящем (подчинение жене; Софья может стать в будущем такой же женой, как и у Платона Михайловича, – поэтому и конфликт с Софьей).
Настоящая неподвижность – это Фамусов. Это воплощение неподвижности во всех аспектах. Фамусов – идеолог неподвижности. Опора Фамусова в его неподвижности – Скалозуб. Ему бы только в генералы. Москва для Скалозуба – артиллерийская дистанция. Ясно – для подавления волнений и учинения порядка. Даже свою боевую награду он получил за неподвижный подвиг («засели мы в траншею»).
Очень важно было бы проанализировать все построение «Горя от ума» с этой точки зрения.
Плюшкин говорит: «Хороший гость всегда пообедавши!» В прямой речи действующих лиц всегда нужна характеризующая их черточка. А кроме того, прямая речь всегда должна быть в произведении обращена к собеседнику, никоим образом – к читателю. Это как в художественной фотографии – фотографируемое лицо не должно чувствовать присутствия фотографа, даже чуть-чуть – и то не годится. По тому, как автору удается создать в произведении речи действующих лиц, не поясняющие что-то для читателей, а произносимые только в пространстве произведения, определяется настоящий писатель. Мастер такого «забывания» в прямой речи о читателе – Достоевский. Хотя ведь большинство его произведений обращены своим текстом (через «рассказчиков», «хроникеров» и т. д.) именно к читателю.
Поразительные и странные представления у Гоголя о женщинах. Особенно в «Риме». Он пишет, например: «Женщины казались подобны зданиям Италии, они… дворцы».
Все меняется в наших представлениях о красоте. А вот женщина-соблазнительница остается во все века одной и той же. Вот как ее описывает протопоп Аввакум: «А прелюбодеица белилами-румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны ниски, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мяхки, приветы сладки, взгляды благочинны, шествие по пути изрядно, рубаха белая, риза красная, сапоги сафьянныя…»
М. М. Бахтин безусловно прав, давая характеристику реалистическому роману, но он не прав, когда свойства реализма вообще распространяет на жанр романа как таковой. Вспомним окостенелые формы рыцарского романа или романа эллинистического. М. М. Бахтин с большими натяжками приписывает им то, что является особенностью реалистического романа; указываемые же им признаки последнего идут от реализма, а не от романа как такового. В концепции М. М. Бахтина, подчеркивающего неизменность «изменяемости» романа вообще, есть известная доля неисторичности.
В литературном произведении только с самой примитивной точки зрения непременно должен быть положительный герой. Пушкин писал о «Горе от ума»: «Теперь вопрос: в комедии „Горе от ума“ кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов» (П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 135).
«Воспитывает» читателя точка зрения автора, сам автор и то, что читатель о нем знает. Вот почему автор и в личной жизни, и в своих частных взглядах, в своем повседневном поведении должен быть безупречен. Ничего скрытого. Все скрытое станет явным и разрушит созданное им, как сель – прорвавшийся с гор грязевой поток.
В Ленинграде произошел следующий интересный случай. Стоял вопрос о создании в нашем городе скромного памятника-знака Достоевскому. И вот ответственное лицо говорит: «У Достоевского нет положительного героя». И ведь верно! Кого мы можем назвать из действующих лиц в произведениях Достоевского, которому хотелось бы подражать? А между тем воспитательная сила произведений Достоевского исключительно велика: она в нравственной позиции самого Достоевского, умеющего глубоко проникнуть в суть нравственных проблем, – извечно нравственных. Ибо «буржуазная мораль» – это не настоящая мораль, а искривление морали. В буржуазном обществе (то есть в обществе капиталистов) моральные проблемы решаются, но решаются неправильно. Есть мораль вечная. И это особенно ясно сейчас. Когда наша страна обращается ко всему миру с требованием мира, разве она не апеллирует к вечной общечеловеческой морали? И литература должна решать извечные моральные проблемы – их бесконечное множество, и они бесконечно сложны. «Положительному герою», будь даже он атлантом, не вынести решения всех нравственных проблем. Поэтому нужны не только положительные герои, но и более выносливая и более необходимая (читателю) нравственная позиция писателя. Кстати, вот почему личное моральное поведение писателя, особенно поэта, имеет такое большое значение. Писатель, беззастенчиво карабкающийся вверх, неудержимо падает вниз.