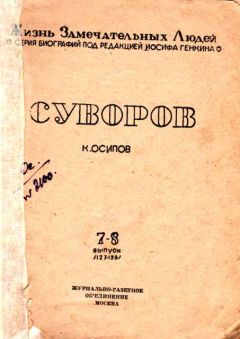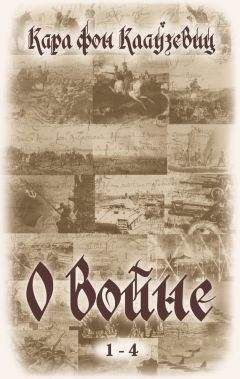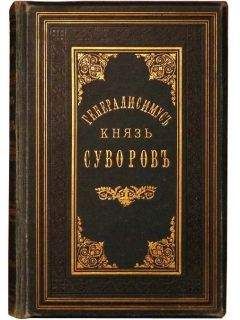Продиктованные им тотчас же условия капитуляции сводились к немедленной сдаче поляками всего оружия и к исправлению моста, по которому русские войска вступят в город. Со своей стороны, он именем императрицы гарантировал полную амнистию всем сдавшимся, неприкосновенность жизни и имущества обывателей и воздание почестей королю. Депутаты были так поражены этими условиями, что многие из них заплакали от радости. Их удивление и волнение еще более усилились, когда Суворов лично вышел к ним и, заметив их нерешительность, бросил на землю саблю и со словами «Покой! Покой!»[28] пошел к ним навстречу.
Варшавяне выразили свою признательность Суворову, преподнеся ему через месяц золотую эмалированную табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю».
Десять тысяч трупов были свезены для погребения за черту города. Из взятых в плен 11 тысяч человек больше половины было отпущено по домам. Потери русских достигали двух тысяч.
В ночь после штурма пошел снег; к утру не осталось следов крови. На улицах и крепостных бастионах лежала одинаково чистая, искрящаяся на солнце белая пелена.
Пражский штурм был повсеместно признан с военной точки зрения образцовым. Но тем усиленнее стали говорить о большом количестве жертв его. Уже давно в Европе поносили Суворова как «полудикого мучителя побежденных». Теперь эти нападки возобновились с новой силой.
Вопрос о жестокости Суворова заслуживает того, чтобы на нем остановиться особо. Это — один из главных упреков, который обращали к Суворову во все времена. Даже почитатели его разделяли иногда это мнение. Любопытный штрих: в 1863 году, после подавления польского восстания, в Петербурге зародилась мысль устроить чествование Суворова как главного завоевателя Польши; к чествованию был привлечен внук полководца, князь А. А. Суворов. Однако он прислал отказ, мотивируя тем, что его дед совершил много славных деяний, но к числу их нельзя отнести кровавое покорение Польши. В ответ на это поэт Тютчев опубликовал наделавшее много шума стихотворение:
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь.
Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя народу своему.
Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим,
На зло врагам, их лжи и озлобленью.
На зло, увы! и пошлостям родным.
Самого Суворова очень беспокоили всегда обвинения в жестокости. В самом деле, при всех столкновениях с ним, даже самых незначительных, потери его противников бывали чрезвычайно велики. Особенно заметно это было в кампанию 1794 года. После битвы при Крупчицах Суворов писал де Рибасу: «Поле покрыто убитыми телами свыше 15 верст. По сему происшествию и я почти в невероятности». Он же сообщал, что после Бреста спаслось только 130 человек, после Кобылки — ни одного и т. д. В этих сообщениях много преувеличений; например, сами поляки определяли свой урон под Кобылкой в 1500 человек (из общего числа 3500). Но бесспорно, что урон среди его врагов был исключительно велик.
В отношении польской войны 1794 года существовало одно особое обстоятельство, обусловившее крупные потери поляков во всех сражениях и наиболее ярко проявившееся при взятии Праги: воспоминание о варшавской резне в начале восстания, когда несколько тысяч русских были зарублены во время сна.
Однако основная причина страшных потерь противников Суворова заключалась в другом, — в том, что его солдаты были воспитаны в духе исключительной энергии и решительности удара. Сражаясь обычно один против двух или против трех неприятелей, они компенсировали свою малочисленность яростью удара, делавшей несокрушимыми их атаки. Отличное знание техники штыкового боя и превосходство русской конницы усугубляли потери неприятеля.
Сам Суворов постоянно давал в приказах: «грех напрасно убивать», «обывателя не обижай» и т. д. Так было и под Прагой. В приказе о штурме имелся специальный пункт: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать». Весь приказ состоял из восьми пунктов, и все же в числе их Суворов поместил этот призыв к гуманности войск. И, тем не менее, важнее всего для него было сохранить сокрушительность атаки. В этой сокрушительности он видел, как это ни парадоксально на первый взгляд, подлинную гуманность. Суворову война представлялась злом, но злом неизбежным, из которого надо стремиться поскорее выйти. Лучшим средством для этого, кратчайшим путем к окончанию войны он считал сокрушительность удара.
— Тот, кто сражается со мной, становится мертвым, — заявил он однажды. — Оттого число врагов моих уменьшается: смертельный бой предотвращает много других, которые могли бы быть еще кровопролитнее.
Он часто выражал сожаление, что при взятии Праги было много жертв среди населения, но и этот злополучный штурм рассматривал с той же точки зрения: «Миролюбивые фельдмаршалы при начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов. Их план был сражаться три года с возмутившимся народом. Какое кровопролитие! Я пришел и победил! Одним ударом приобрел я мир и положил конец кровопролитию».
— Победа — враг воины, — часто говорил он. Этот взгляд Суворова совпадает с тем, который высказали впоследствии Маркс и Энгельс. В статье по поводу осады Севастополя говорится: «Поистине Наполеон Великий, этот убийца стольких миллионов людей, с его быстрым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности, по сравнению с нерешительными, медлительными государственными мужами, руководящими этой русской войной»[29].
Ничто не возмущало Суворова больше, чем обвинение в жестокости.
— Только трусы жестокосердны, — говаривал он. Когда поляки выражали ему признательность за мягкое, справедливое управление, еще больше оттененное разгулом пруссаков и австрийцев в занятых ими областях, он ответил им стихами Ломоносова:
Великодушный лев злодея низвергает,
И хищный волк его лежащего терзает.
Суворов часто с гордостью говорил, что на своем веку не подписал ни одного смертного приговора. Исключительным было также его отношение к военнопленным, о которых он всегда заботился и часто освобождал под честное слово.
Все это свидетельствует о полной беспочвенности обвинений Суворова в сознательной жестокости. Однако война — сама по себе жестокая вещь. А в своих действиях Суворов, в первую очередь, руководился соображениями военной целесообразности.