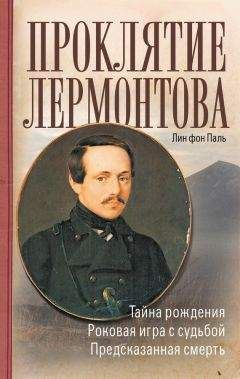Два спокойных года. Самый несчастный человек
3 января 1838 года Лермонтов приехал в Москву. И, разумеется, тут же пустился наносить визиты и посещать новогодние балы. Кавказская ссылка, оказавшаяся увлекательной прогулкой по горной стране и давшая массу впечатлений, была уже позади. Из никому не известного офицера лейб-гвардии он в 1838 году стал уже «тем самым Лермонтовым, который написал стихотворение „На смерть поэта“ и за это пострадал, а теперь прощен». Разумеется, на него смотрели с интересом. Но литературной славы за ним пока не водилось: кроме стихотворения, ходившего в списках, за ним числились только «Хаджи-абрек» да «Бородино». И то последнее – за подписью «-в», подлинное имя знали только посвященные. Какая слава? Славу нужно было еще заработать. Судьба дала ему для этого два года: практически все, что он мог и должен был сделать, – сделано в эти два года.
Внешняя канва его жизни в эти два года крайне незамысловата. Из Москвы он в середине января приезжает домой, в Петербург, где встречают его с большой радостью – как домашние, которые ждали его с нетерпением, так и люди, с которыми прежде он не был даже знаком, – друзья Пушкина, увидевшие в нем наследника, способного заменить погибшего поэта. Это – признание его заслуг? Да нет же! Он и сам понимает, что заслуг никаких пока нет, есть лишь благодарность за честный поступок. Он для этих людей слишком молод. Его нужно пестовать. Этим и занимаются законодатели литературной моды, пушкинский круг – Жуковский, Вяземские, Карамзины. Один из первых визитов в Петербурге, который он наносит, – Жуковскому. До Жуковского дошли слухи о поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша», написанной в дороге с Кавказа в Москву. Поэма была из тех, «гусарского розлива», но практически без нецензурщины. Жуковский просил Лермонтова ее прочесть. Лермонтов прочел. Жуковскому понравилось, он послал Лермонтова читать свое творение П. А. Вяземскому. Вяземскому тоже понравилось, и он пообещал напечатать этот опус в ближайшем выпуске «Современника». Наивный Лермонтов обрадовался и отдал свою поэму в хорошие руки.
Каково ж было возмущение, когда через пару месяцев он увидел свое творение напечатанным. И. И. Панаев сохранил рассказ о реакции поэта на публикацию, и в самых ярких красках:
«Он держал тоненькую розовую книжечку „Современника“ в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого. – Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… – Это ни на что не похоже! Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке „Современника“, где была напечатана его „Казначейша“, набросал какую-то карикатуру».
Мало того что название поэмы из «Тамбовской казначейши» превратилось просто в «Казначейшу», город Тамбов в заглавную «Т» со звездочками, а имя автора – в жалкий остаток его фамилии «-въ», так и сам текст несчастной поэмы был изуродован вымарыванием и заменой строчек прочерками! Вымарыванием там, где не было никаких непристойных выражений! А вроде доверился ведь таким доброжелательным людям!
Больше ему повезло с «Песней про купца Калашникова», полное название которой – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Она была опубликована 30 апреля в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», но с огромными трудностями: цензура наотрез отказалась пропускать сочинения господина Лермонтова, да еще и на такую скользкую тему, как отношения отдельной личности и самодержца. Пришлось вмешаться Жуковскому. Поэма вышла, но вместо имени – набор случайных букв. В отличие от «Казначейши», «Песня» порезана не была. Впрочем, изуродованную «Казначейшу» он тоже увидел напечатанной только в свой следующий приезд в Петербург.
А тогда, проведя в столице месяц, 16 февраля он отбыл в Гродненский гусарский полк – уже не в нижегородской форме с барашковой шапкой, а в родной, лейб-гвардии гусарской, в кивере с белым султаном из петушиных перьев. Он даже не сделал своих обычных попыток приболеть и задержаться в столице. Хоть появились новые литературные знакомства, полезные и значительные, он в этой рафинированной среде чувствовал себя совершенно одиноким и каким-то, если хотите, ничтожным. Но хуже всего складывались отношения с домашними, о чем он и жаловался в письме к Марии Лопухиной:
«Пишу вам, милый друг, накануне отъезда в Новгород; я всё поджидал, не случится ли со мною что-нибудь приятное, чтобы сообщить вам, но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в непрерывной беготне: представления, парадные визиты – вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он, правда, очень хорош, но мне уже надоел; вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! – не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат. Наконец, я порядком пал духом и хочу даже как можно скорее бросить Петербург и отправиться куда бы то ни было, в полк ли или хоть к черту; тогда, по крайней мере, у меня будет предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого… Приехав сюда, я нашел дома целый ворох сплетен; я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь; простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле, но увы! раз я вам это говорю, это как раз доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории, истории – жалобы, упреки, подозрения, заключения, – это просто несносно, особенно для меня: я отвык от этого на Кавказе, где общество дам – редкость или же они малоразговорчивы (в особенности грузинки: они не говорят по-русски, а я по-грузински)… Бабушка надеется, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, но дело в том, что ей внушили эту надежду Бог знает с какой целью, а она на этом основании не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь».
Вот с таким настроением – «в полк или хоть к черту» – он и отбыл в новгородскую глушь. Тоска там была страшная, офицеры спасались от нее пьянством да картами. Лермонтов попробовал и то и другое, крупно проигрался, бросил играть, и стало совсем тошно. Из сорока пяти дней в полку он шестнадцать провел в том Петербурге, из которого бежал «хоть к черту». Он просил о переводе на Кавказ, а Елизавета Алексеевна правдами и неправдами добивалась возвращения Мишеньки в Царское Село. В Кавказе Лермонтову было отказано, а в Царское Село в конце концов его вернули – ссылаясь на нездоровье бабушки: «по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород». Старости той было всего-то 65 лет. Многие же верили, что все 80.