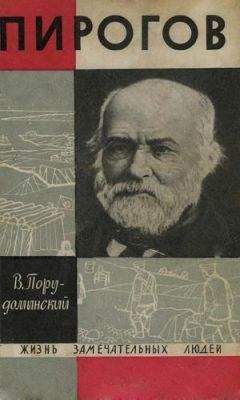Для русских литераторов Кавказ был свободой или тюрьмой, иногда смертью. Сюда убегали от Петербурга. Сюда ссылали. Здесь могли убить. Своей или «чеченской» пулей. Для читающих людей существовал Кавказ пушкинский, лермонтовский, бестужевский.
Чир-Юрт, Сулак, Кой-Су — названия хранили память о Полежаеве. Университетский знакомец Пирогова, поэт, самим царем отданный в солдаты, искал в этих краях свое бессмертие. В Москве Полежаев просидел год в каземате. Год под землей, в каменном мешке. Закованный в колодки, сочинял стихи и ждал, что его прогонят сквозь строй. Его «помиловали» — отправили на Кавказ, под пули. Полежаев три года участвовал в военных операциях. По каменистым тропам таскал на себе тяжелые орудия. Штурмовал аулы, похожие на орлиные гнезда. Пули оказались добрее государя императора: они не сразили поэта. На сером камне и высоком походном барабане, в горской сакле и казацкой избе он творил свой подвиг — писал стихи. С театра войны он прислал книжку стихотворений, несколько поэм. В одной из них он провидел свое бессмертие:
В глухой, далекой стороне
От милых сердцу я увяну…
В угодность злобному тирану,
Моей враждующей судьбе!
…Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света…
Стихи, друзья мои, стихи!..
На полежаевском Кавказе рядом с романтикой величественной природы и волнующим чувством опасности жили будни солдатчины: потные, облепленные пылью люди грызли сухари, размоченные в болотной жиже, зашивали худые сапоги, помирали под пулями и от поноса. Стремительные горные реки не радовали глаз, когда надо было переходить их вброд. Горные вершины не манили, когда надо было с тяжелым ружьем и ранцем карабкаться вверх по камням.
Полежаева отозвали с Кавказа и убили унижениями, чахоткой, розгами — после наказания из его спины еще долго вытаскивали прутья.
Через год после смерти Полежаева его помянул еще один воспитанник Московского университета, Михаил Лермонтов. В поэме, названной, как и полежаевская, «Сашка», Лермонтов обратился к его костям, «покрытым одеждою военной»:
…Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братий.
Как знать? — Земля до молодых объятий
Охотница…
Это было пророчество. Следующим убили Лермонтова. Пирогов проехал и лермонтовский Пятигорск и полежаевский Чир-Юрт.
От Чир-Юрта сибирский тарантас сопровождали драгуны. Пирогов въезжал в глубь Кавказа. Одновременно он въезжал в новую для себя область — военную медицину. Ему еще предстояло внести в нее неоценимый вклад. Впрочем, такой вклад Пирогов вносил во всякое дело, за которое брался.
К осаде Гиргибиля Пирогов и его спутники не поспели. Вместе с войсками они двинулись под Салты. С полюбившимся тарантасом пришлось расстаться — он не подходил для узких горных дорог. Ехали верхом. Следом тянулись вьючные лошади с багажом.
Пирогов сравнивал аулы с гнездами ласточек. Аул Салты стоял поперек ущелья. Скалистые уступы и пропасти защищали его со всех сторон. Пирогов отмечал, что «строившиеся умели пользоваться местностью и имели в виду оградить себя от нападения неприятеля». Осада Салтов тянулась почти два месяца. Все это время Пирогов жил в солдатской палатке без пола. Осаждающие тайно сделали подкопы, заложили мины. Сильные взрывы послужили сигналом к приступу. Бой за аул был жесток и труден. Сакли с бойницами вместо окон, расположенные на террасах, одна над другой, узкие переулки, в которых не разминуться двоим, подземные ходы. Выстрелы сверху, снизу, сбоку. Каждую саклю приходилось брать отдельно. После решающего штурма Пирогов перевязывал раненых и оперировал несколько суток подряд, с семи утра и до часу ночи.
Генералы прославляли взятие Салтов, как замечательную стратегическую победу. В истории Салты остались благодаря тому, что здесь впервые был применен наркоз на поле сражения. Не генералам, а Пирогову обязаны Салты славой.
Пироговский лазарет под Салтами размещался в шалашах. Солнце протискивалось сквозь сплетенные из ветвей стены, плотными лучиками упиралось в земляной пол — под ногами сверкали россыпью зеркальные осколки. Раненых укладывали на скамейки, сложенные из камней. На камни настилали солому. Ее не успевали менять, она пропитывалась кровью. Под голову раненым подкладывали сложенную амуницию. Пирогов оперировал, стоя на коленях. Поздно ночью он с трудом распрямлял согнутую целый день спину. От холодного каменистого пола мучительно ныли колени.
Пирогов сделал под Салтами сто хирургических операций с наркозом. Случалось, десять операций следовали одна за другой. Его поражала тишина. Молчащая операционная — тогда это казалось чудом. За спиною хирурга собирались зрители. Пирогов не гнал их. Они разносили славу «замирательных капель» по всему кавказскому театру. С перевязочных пунктов, где даже герой Багратион страшился провести несколько минут, уходил страх. «Отныне, — говорил Пирогов, — эфирный прибор будет составлять, точно так же как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле».
Темир-Хан-Шура, Турчидах, Салты, Кумых, Дербент, Баку, Шемаха, Нуха, Тифлис. Пока профессор Пирогов продолжал свое путешествие по Кавказу (все в том же тарантасе, растянувшись на бурке между громоздкими ящиками с багажом) и продолжал изучение действия паров эфира, акушер Симпсон в далеком Эдинбурге обнаружил, что в качестве обезболивающего средства можно с успехом применять еще одно вещество — хлороформ.
Симпсон доложил о своем открытии 10 ноября 1847 года. Хлороформ показался многим соблазнительнее эфира: усыпляющее его действие было сильнее, сон после него наступал быстрее, для его применения не требовалось специальных аппаратов — платок или кусок марли, смоченный в хлороформе, мог заменять маску.
Против Симпсона, который использовал хлороформ для обезболивания родов, восстали церковники. «Это противно священному писанию, — твердили они. — Там сказано: «В муках будет рожать Ева детей». Научные аргументы в расчет не принимались, но находчивый акушер побил неприятеля его же оружием. Он заявил: «Мои противники забывают 21-й стих второй главы книги Бытия. Там упоминается о первой в истории хирургической операции. И что же? Творец, прежде чем вырезать у Адама ребро для сотворения Евы, погрузил его в глубокий сон». Этот довод решил спор.
Хлороформный наркоз зашагал по свету еще быстрее, чем эфирный. Русские хирурги приняли его на вооружение всего через месяц после доклада Симпсона. В конце декабря 1847 года, на обратном пути с Кавказа, за хлороформ взялся Пирогов. Взялся опять-таки с пироговским размахом. К началу 1849 года он уже подвел итоги трехсот операций под хлороформом, а еще через пять лет их число выросло до двух с лишним тысяч. И ведь что важно: Пирогов не только сделал эти две тысячи операций, но и проанализировал. Да еще сопоставил для сравнения с итогами подобных же операций, произведенных без наркоза, для чего разобрал архив Обуховской больницы за двадцать лет! И окончательно вывел: «Итак, и наблюдение, и опыт, и цифра говорят в пользу анестезирования, и мы надеемся, что после наших статистических исчислений, сделанных совестливо и откровенно, ни врачи, ни страждущие не будут более, увлекаясь одними предположениями и предрассудками, восставать против нового средства, столь важного в нравственном и терапевтическом отношении».