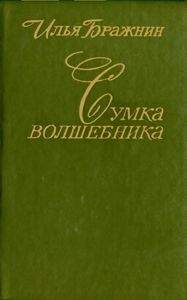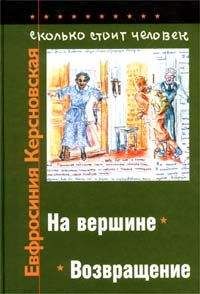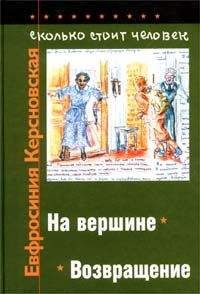Утро было наредкость свежее и ясное. В первую минуту Самарин даже зажмурился от блеска снега, а когда раскрыл глаза, то прямо на него глядела яркая зелёная звезда.
- Здравствуй, красавица, - сказал Самарин, сразу почувствовав в это утро радостное оживление.
Он пошёл сперва тёмной и узкой натоптанной тропкой мимо двух бревенчатых пулемётных блокгаузов, потом вышел на наезженную дорогу, ведущую к деревне в районе станции Емца, где стоял штаб бригады и некоторые другие воинские учреждения, в том числе и особый отдел. До места было шесть километров, и Самарин решил идти пешком. Пока вызовешь из тылов лошадь, пока её запрягут, пройдёт верных полчаса, а за полчаса он полдороги отшагает. Кроме того, утро было так свежо и ярко, что невольно каждая жилка в теле запросила движения, и дорога словно сама побежала под ноги.
Не мешкая и не теряя времени на раздумья, Самарин быстро зашагал по дороге. Скоро она свернула в лес. Каждый кустик, каждая ветка, каждый пенёк были аккуратно одеты в пухлые снежные колпачки. Старые ели под тяжестью снега приспустили мохнатые лапы, а сосны так раскудрявились под утренним инеем и вырядились в такие тончайшие кружева, каких не выплести и самым искусным рукам устьянок, известных своей тонкой работой далеко за пределами родной Вологодской губернии.
Самарин смотрел на эти сосны, не уставая любоваться их гордой прямизной и какой-то весёлой кудрявостью. Он родился и вырос в Мариуполе, в Матросской Слободке, и на север попал впервые только в середине прошлого года. Север сразу полюбился ему своей строгой, некрикливой красотой. Особенно нравилась Самарину северная зима - сухая, морозная, снежная. Она взбадривала, побуждала к деятельности, молодила. Самарину едва перевалило за тридцать, но на вид ему можно было дать значительно больше. Самому ему казалось временами, что он прожил очень долгую и очень сложную жизнь, так бурны были последние её годы.
Впрочем, сейчас он чувствовал себя совсем юным. Весь мир вокруг него тоже помолодел и посвежел. Стоявшая в конце лесной прорубки звезда казалась только что рождённой; лес был молод и весел; само утро - свежо и улыбчиво. Даже снег под каблуками сношенных сапог так задорно поскрипывал, что скрип этот походил на посвистывание какой-то диковинной лесной пичуги.
Пройдя километра полтора, Самарин так согрелся, что решил снять рукавицы. Снимая рукавицу, он уронил её на дорогу, остановился, чтобы поднять, и застыл в неподвижности, забыв о лежащей у ног рукавице. Его вдруг поразила стоявшая вокруг тишина и поразила не потому, что была она необычной в районе, близком к передовой. К колдовской лесной тиши примешивалось ещё что-то, что Самарин не сразу мог определить и назвать. Какой-то особый запах исходил от снега, какая-то особая тяжеловатая влажность была в ветре, обвевавшем лицо. Как-то по-особому нежны и неуловимы были переходящие один в другой розоватые тона утреннего неба. Всё было особым, всё стало вдруг необыкновенным в это утро. И всему этому особому и необыкновенному отыскалось, наконец, название.
Это была весна.
Пусть горело от морозца лицо, пусть ослепительно блистал снег, пусть прохватывал холодком ветер - всё равно это была весна.
Он забыл о ней. Он забыл, что существует на свете такое удивительное время года, забыл потому, что новую, приближающуюся весну от прошлой весны восемнадцатого года отделяла целая вечность. Трудно было даже так вот вдруг охватить одним взглядом напряжённое лето восемнадцатого года, когда молодая Советская республика отбивалась от наседавших со всех сторон армий интервентов и белых генералов. За напряжённым летом последовала ещё более напряжённая осень. Для Самарина она была заполнена тяжёлыми боями на Северном фронте, куда он прибыл с первым отрядом красных. В изнурительных боях нужно было сдерживать отлично снабжённую и вооружённую, во много раз превосходящую численно армию интервентов и белогвардейцев, имея под рукой ещё разрозненные красные отряды, состоящие из людей необученных, плохо вооружённых, полуодетых и полуголодных, лишённых самого необходимого, людей, главным оружием которых была непримиримая ненависть к старому, отжившему миру. Нужно было не пропустить врага, рвущегося к Котласу и Вологде, а оттуда к Москве и Петрограду - к самому сердцу республики. Нужно было драться насмерть и одновременно с этим, в процессе упорнейших боёв, на ходу строить северную Шестую армию, такую армию, которая могла бы сдержать интервентов и белогвардейцев, дать им отпор.
Всё это нужно было делать без промедлений и колебаний с напряжением всех сил. Всё это было проделано, и вот зимой девятнадцатого года настал день и час, когда рождённая в боях Шестая армия двинулась вперёд. В её рядах шёл и комиссар Самарин. Он прошёл около двухсот вёрст безлюдными лесами, бездорожьем, в тридцатисемиградусные морозы, он участвовал во взятии Шенкурска, был ранен. Вскоре он снова вернулся на железнодорожный участок Северного фронта, побывал и на Онежском направлении. Оперативной боевой и неотложной политической работы было так много, так плотно заполняла эта работа сутки, что больше трёх-четырёх часов на сон обычно никак не выкраивалось. Немудрено поэтому, что комиссар Самарин не заметил, как подкралась к нему весна; немудрено, что так поразила его нежданная встреча с ней в глухом лесном уголке.
Долго стоял Самарин на лесной дороге, подставив лицо влажному ветру и забыв о лежащей у ног рукавице. Потом вдруг огляделся вокруг и сказал с радостной дрожью в голосе:
- Чёрт побери, до чего же хорошо на свете жить!
Он ещё раз огляделся и быстро пошёл вперёд, так и оставив на снегу рукавицу. А спустя десять минут он повстречал на перекрёстке несколько розвальней, везущих в тыл тяжело раненых. Настроение радостной приподнятости, которое охватило Самарина на лесной дороге, разом исчезло.
Когда сани проехали, Самарин быстро зашагал своей дорогой, но мысли его резко изменили направление
Через полчаса он был уже в деревне, в которой расположился штаб бригады, и направился прямо к избе, занимаемой особым отделом. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошёл в избу, были двое пленных, сидевших на лавочке, идущей вдоль боковой стенки русской печи. Пленные сидели поодаль друг от друга, и Самарин в первую минуту не понял, почему они так сидят. Но тут же он разглядел, что один из пленных офицер, а другой солдат, и всё стало понятным.
Две шубы лежали на другой лавке, в углу. В избе было жарко натоплено, и пленным, видимо, велели раздеться. Солдат сидел в коротком жиденьком травянистого цвета френчике с парусиновым широким кушаком такого же цвета. Кушак зацеплялся за два медных крючка, нашитых сзади на френче. Нашиты они были так высоко, что кушак приходился под самую грудь.