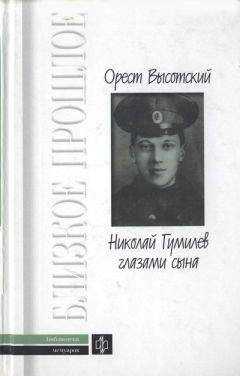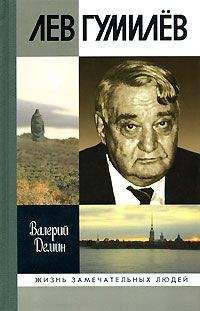Летом в Териоках образовалось товарищество актеров. На дачный сезон там арендовали театр, инициатором была Любовь Дмитриевна Блок, а Всеволод Эмильевич Мейерхольд согласился режиссировать. Труппа состояла из опытных актеров, но были и молодые, в их числе Высотская. Размещались актеры на большой даче Лепони, превращенной в общежитие, все получали бесплатное питание, но никакой платы.
В вечер открытия поставили сочиненную Мейерхольдом пантомиму «Влюбленные» с музыкой Дебюсси и декорациями Кульбина. На премьеру из Петербурга приехал Блок. Он и позже бывал на всех спектаклях, но никогда не оставался ночевать на даче, где с другими актерами оставалась его жена. Высотская сняла отдельную комнату, в которой жила со своей матерью, приехавшей из Москвы. Днем шли репетиции, вечером — спектакли. В свободное время любили запускать на пляже воздушного змея.
Однажды поздним вечером к Высотским зашел художник Сапунов со спутницей, ученицей Высших женских курсов, которую, с его легкой руки, все звали «Принцесса». Сапунов сказал, что они небольшой компанией — художницы Бебутова и Яковлева, поэт Кузмин и он с «Принцессой» — приехали на артистическую дачу. Компания отправилась в казино, а Сапунов с девушкой зашли к Высотским, долго пили чай, говорили о Москве.
Рано утром прибежали со страшным известием: Сапунов утонул. После ужина в казино молодежь решила прокатиться в лодке по морю. Отъехали далеко, стали меняться местами на ходу и перевернулись. Кое-как подплыли к лодке, ухватились за нее. Сапунова не было. Трех девушек и Кузмина спасли финские рыбаки, а тело художника море выбросило через несколько дней в Кронштадте.
Вскоре после этого случая в Териоки приехал Николай Степанович. Ольга познакомила его со своей матерью, которой он не понравился: ужасно церемонно держится, настоящий сноб. Но Ольга не обратила на это внимание. Их встречи с Гумилевым продолжались. Она ни на что не рассчитывала, просто любила своего героя.
Ольга Николаевна родилась и выросла в семье русских интеллигентов; ее отец, сын подмосковного помещика, служил директором Ярославской гимназии и в 1906 году, подобно Иннокентию Анненскому, имел неприятности за свой либерализм и был переведен в Тулу. Лишь к 1910 году он получил должность директора гимназии в Москве, на Разгуляе. Мать Ольги окончила консерваторию в Женеве, где сблизилась с революционной молодежью, жившей в эмиграции, увлеклась передовыми идеями, с восторгом изучала биографии декабристов и даже была в дружбе с сыном одного из них — Якушкиным.
Отец по вечерам вслух читал что-нибудь художественное, мать на концертном рояле играла Бетховена, Баха, Моцарта. Ольга с детства полюбила поэзию, музыку, живопись, но особенно увлекалась театром. Ее учителями стали режиссер Николай Евреинов, а потом Мейерхольд, посвятивший ей в ноябре 1912 года свою постановку пьесы Федора Сологуба «Заложники жизни».
Николая Степановича она полюбила глубоко и серьезно. Он, особенно в начале романа, отнесся к этому как к своей очередной победе, но постепенно и в нем начали просыпаться более глубокие чувства, которые он старался не показывать: в артистической среде проявлять любовь или ревность считалось плохим тоном.
Отношения в этой среде и правда были свободными. Встретив Высотскую на Невском, Паллада Олимповна, в ту пору — Богданова-Бельская, рассказывала, делая при этом «трагические глаза», что вчера вечером Гумилев объяснялся ей в любви и что устоять перед таким мужчиной она не смогла. Конечно, Паллада могла и приврать, ведь это ей Кузмин посвятил в «Гимне Бродячей собаки» несколько строк о даме, которая «резвится на лугу», ибо ей «любовь одна отрада». Посещавшая не только «Собаку», но и фешенебельные рестораны с отдельными кабинетами, эта актриса снискала себе вполне определенную репутацию. И все-таки Высотская была шокирована. Что в самом деле произошло между нею и Гумилевым в марте 1913-го, никто не узнает. Не было ни бурных сцен, ни слез и упреков. Ольга Николаевна спокойно сказала, что уходит, отрекаясь от всего, что связывало их подобием любви.
Высотская уехала в Москву, а Гумилев 7 апреля отправился в Абиссинию. Из Порт-Саида он послал Высотской открытку с сонетом «Ислам» и приписал: «Всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Саид, куда привезти Вам леопардовую шкуру». По тону открытки можно предположить, что он обескуражен неожиданным разрывом, может быть, даже глубоко переживал его, хотя с деланной игривостью пытался представить всю эту историю недоразумением. Но в том же году Гумилев написал «Пятистопные ямбы»:
…Я знаю, жизнь не удалась… И ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье…
К кому были обращены эти строки? Высотская всю жизнь считала, что они относятся к ней, а не к Ахматовой, как утверждают литературоведы. Ведь в 1913 году ушла именно она…
«Бродячая собака» снискала прочную репутацию артистического клуба, в котором проходили заседания Цеха Поэтов, диспуты акмеистов с эгофутуристами, чтение недавно написанных стихов. Попасть в число приглашенных в кабаре для поэта считалось честью.
Однажды на заседании Цеха в «Бродячей собаке» получил такое приглашение молодой поэт Георгий Иванов, недавно выпустивший свой первый сборник стихов «Отплытие на остров Цитеру». На сборник обратил внимание Гумилев и похвалил в рецензии: «Первое, что обращает на себя внимание в книге Георгия Иванова, — это стих. Редко у начинающих поэтов он бывает таким утонченным, то стремительным и быстрым, чаще только замедленным, всегда в соответствии с темой».
В кабаре молодой поэт с волнением оглядывался, ожидая встречи с мэтром — с Гумилевым. Появился Владимир Нарбут; Сергей Городецкий принес символ Цеха — деревянную лиру. Все ждали появления главного синдика. Наконец послышалось: «А вот и Николай Степанович».
Иванов вспоминает: «Гумилев стоял у кассы, платя за вход. Слегка наклонившись вперед, прищурившись, он медленно отсчитывал на ладони мелочь. За ним стояла худая, высокая дама, ярко-голубое платье не очень шло к ее тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилева так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания. Гумилев шел, не сгибаясь, важно и медленно — чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза… Одет он был тоже странно: черный, долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук… Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства… Но руки у него были прекрасны и улыбка, редкая по очарованью, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности. Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов — и я сразу почувствовал к Гумилеву граничащее со страхом почтение ученика к непререкаемому мэтру. Я не был исключением. Кажется, не было молодого поэта, которому Гумилев не внушал при первой встрече тех же чувств».