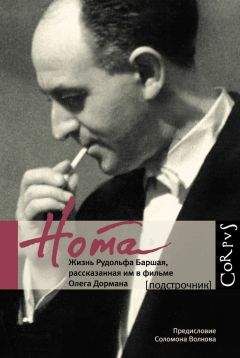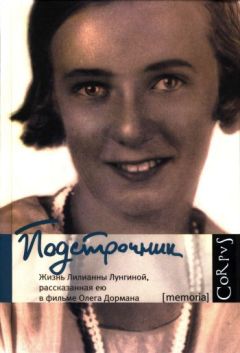Стало:
Я думаю о подвиге России,
фашизму преградившей путь собой,
до самой наикрохотной росинки
мне близкой всею сутью и судьбой.
Но все равно: это могло обмануть только цензоров и начальников, не публику. Сила симфонии была такова, что через год ее все-таки запретили, негласно, просто перестали исполнять. Но потом снова пришлось допустить: весь мир о ней знал, просто так замолчать не получалось.
Когда в конце семидесятых, через несколько лет после смерти Шостаковича, на Западе вышли его воспоминания, записанные Соломоном Волковым, какой вой подняла большевистская пропаганда! «Это фальшивка, это все выдумал Волков для саморекламы…» Я убежден, что воспоминания настоящие. Я слышу голос Шостаковича в каждой фразе. Волков только добросовестно и честно все записал. Очень многое из опубликованного в книге, что вызвало такой гнев, я сам слышал от Шостаковича. Какими страшными, какими горькими словами она заканчивается.
«Это все сделало мою жизнь серой». Что все? Наша советская действительность, наш этот социалистический реализм, наше пренебрежение душой человеческой.
Играть иначе меня не мог бы заставить никто. Если требовали, чтобы я играл то, чего не хочу играть, я отказывался. Не буду, и все. Но против запрета исполнять то или иное произведение поделать я ничего не мог. Бывало, ослушивался, но это — исключительные случаи. Замечательную сонату Хиндемита для альта соло я играл не в открытых концертах, а по друзьям, знакомым. Про Хиндемита мне рассказал превосходный пианист, друг Рихтера, Анатолий Ведерников. Я был влюблен в это сочинение, мне казалось, российская публика обязательно должна его услышать. Но чиновники отвечали: нет, Хиндемита исполнять не разрешено. Пошел к Кабалевскому, одному из секретарей Союза композиторов. Все начальники при коммунизме назывались «секретарями» — ну как это Кафка предвидел? Говорю: мне не дают исполнять эту музыку, я хотел бы вам ее сыграть. «Ну сыграйте». Сыграл. Было видно, как музыка его взволновала. Но он человек был в политическом смысле… обтекаемый. Сказал, что со времен борьбы с «формализмом» существует список нежелательных и, наоборот, рекомендуемых к исполнению композиторов, никто его не отменял. Потом то ли пообещал где-то «поговорить», то ли даже не обещал — помню только, что поход к нему был напрасным.
Произведения, которые могли быть хотя бы только сочтены религиозными, запрещалось исполнять категорически. Какие битвы приходилось устраивать! Я объяснял: это же музыка, она принадлежит всему человечеству, как можно отнимать у нашей публики… Иногда все-таки удавалось сторговаться, но при одном условии: не петь по-русски и не давать перевода. Так мы исполнили Stabat Mater — гениальное сочинение фантастического композитора Перголези, который создал его незадолго до смерти, а умер он в двадцать шесть лет. Речь там о матери, скорбящей у креста о распятом сыне. Отклик слушателей был колоссальным. Знакомство нашей публики с этой музыкой стало таким событием, что, когда произошло другое, не менее крупное — Гагарин полетел в космос, — Андрей Волконский, талантливый музыкант и мой друг, пошутил: советская власть сыграла Stabat Mater.
Не давали мне сыграть с моим оркестром Verklärte Nacht Шёнберга — «Просветленную ночь», замечательное произведение. Только после того, как приехал на гастроли иностранный оркестр и сыграл, разрешили и нам. Она написана в романтическом стиле, когда Шёнберг еще не изобрел своей додекафонной системы. Ни додекафонии, ни новой венской школы, ни новой французской — ничего этого для нашей публики не существовало. Так же, как привозили тайком, с огромным риском, книги Оруэлла и Набокова, так просачивались к музыкантам знания о новой музыке, партитуры, записи передавались из рук в руки, на одну ночь. А ведь «новая музыка», когда она настоящая, не шарлатанская, — это естественное развитие, поиск, расширение восприятия человеческого. Это смелость, свобода и вызов, а никакой не «упадок», как пытались нам вдолбить. Я согласен с Антоном Веберном, который считает, что додекафонную систему Шёнберг не выдумал, а только оформил. А нашел ее еще Малер. В самом деле, у Малера уже есть додекафонные аккорды — скажем, в Десятой симфонии этот грандиозный страшный аккорд. Малер не пошел в эту сторону, но как он мудро сказал о Шёнберге: «Я не понимаю его музыки, но он молод, может быть, он прав…» Мне придется рискнуть и в двух словах хотя бы обрисовать вам, что такое додекафонная система, чтобы вы поняли, почему это важно. Когда Шёнберг ее обнародовал, он говорил: было время, когда терция и секста считались диссонансами. То есть если одновременно звучали две ноты с таким интервалом по высоте, это резало ухо. Сегодня уже нет. Люди привыкли. А для меня, говорил Шёнберг, больше не являются диссонансами септима и секунда. Мой слух настолько развился, что такие созвучия для меня не звучат как диссонанс. Додекафонная система разрешает к использованию то, что раньше считалось диссонансом. Додекафония — вид серийности. Композитор создает определенный звуковой ряд из двенадцати тонов («додекафония» — по-гречески «двенадцатизвучие»), и пока не использует все ноты этого ряда, не имеет право их трогать повторно. Я должен сказать, что это делал уже и Малер — и Бах делал. Его нотная подпись B-A-C-H, где каждая буква является одновременно обозначением ноты на латыни, — вот вам серия. Ни одна из этих нот не может повториться, пока не прозвучат остальные. Так что вот такие трудности создает себе композитор — и должен их преодолеть, чтобы музыка была и значительная, и хорошая, и красивая — и притом были соблюдены формальные условия. Это очень непросто. Шостакович был от додекафонии далек, но сказал мне как-то, что относится к ней с уважением, поскольку столько серьезных людей этим занимается. Первый на моей памяти, кто посмел в Советском Союзе написать музыку в додекафонной технике, — Андрей Волконский. Он вырос за границей, его отец — князь из древнего рода, мать — дворянка, после войны они, как многие русские патриоты, на волне победы вернулись в СССР — и довольно быстро ощутили на себе, что тут происходит. Князя устроили ночным сторожем в его бывшее имение. Выдали ружье. Он говорит: «Да я и стрелять не умею», а ему: «Ничего, стрелять тебе не придется». Андрей до того учился музыке в Швейцарии, а тут поступил в Московскую консерваторию и первым делом организовал кружок современной музыки. Об этом, конечно, узнали, его вызвал ректор консерватории и сказал: «Вы, господин Волконский, приехали с Запада, чтобы формализм у нас насаждать?» Андрей ответил: «Вообще-то на Западе нас учили на Рамо, Моцарте и Бахе, а про формалистов, как вы выражаетесь, я узнал только в Москве. Но, честно говоря, они мне очень нравятся». Андрей играл в нашем оркестре орган и клавесин, потрясающе импровизировал (да так, что Ойстрах однажды рассердился: «Не понимаю, у кого тут сольная партия — у скрипки или у органа?»), а потом именно он основал первый ансамбль старинной музыки, что говорит не только о широте его интересов, но и о понимании единства музыкального процесса, который нельзя прервать насильственно. В начале семидесятых Андрей вернулся на Запад и стал известным композитором. У него есть сочинение, посвященное мне, альтовая соната, с забавной историей: мы на гастролях жили в одном номере, Андрей поздно ложился и спал до полудня, а я с раннего утра репетировал, и, чтобы его не будить, играл медленно смычком на пустых струнах. Вот именно так и начинается эта соната.