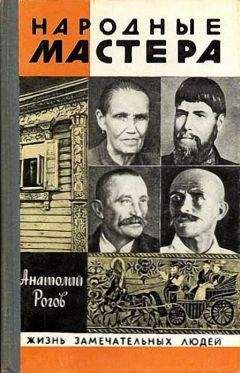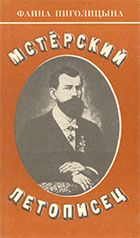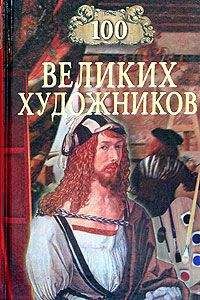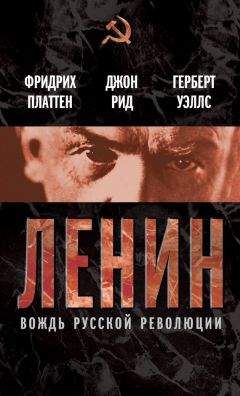Своего никто ничего не придумывал; повторяли ворносковское и редко кто сложное, на это отваживались лишь Артемьев, Можаев, потом Иван Гуляев да сыновья. Остальные делали что попроще, по образцам: рамки, полочки, шкафики, коробки с птицами и зверями, обрамленными упругими пальчиковыми ветвями. Рисунки переводили с калек, затем надрезали контур узора, затем заваливали фон, заваливали узор. Широко применяли придуманную им набойку фона гвоздиком: фон получался необычайно красивый, вроде торшеный, мягкий. И любой огрех эта набоечка скрывала.
Машинально крестился, говорил «Господи, пособи!» и начинал. Сразу начинал во всю силу и во весь мах — на сколько хватало рук. Конец стойки и «пупок», то бишь рукоять косы, быстро горячели, сухо жгли ладони, но вскоре это уже не замечалось, потому что огнем наполнялось все тело, потом огонь переходил в тупое напряжение, будто все до единой мышцы, вообще все в его теле больно натягивалось, готовое вот-вот лопнуть. Горячий пот тек по лицу, по груди, по пояснице, по икрам… Глаза ничего не видели, все плыло, сдваивалось, солнечный свет темнел и слепил… Резкий хруст срезаемых колосьев делался глухим и далеким, а других звуков и голосов как будто вообще не было. Наступало самое тяжкое: тело сковывало жуткой слабостью, и все в нем до последней жилочки начинало противно дрожать и мякло, мякло… Казалось, еще шаг, еще мах — и он поникнет, свалится как пустой куль… В сознании стучала только одна фраза: «Не останавливаться!.. Не останавливаться!..». И он не останавливался. И вскоре словно выплывал из тумана: над головой опять повисали вызолоченные солнцем облака, теплый воздух опять поил духом разогретого зерна — рожь была тиха и только резко хрустко вздыхала, падая на крюк косы. Падала… Падала… Х-х-х-хык!.. Х-х-х-хык!.. Косцы шли везде, слева и справа, до самого леса. И он опять всех сильно обогнал, а жена и невестки опять еле успевали вязать за ним снопы. Трое за одним.
Теперь каждый шаг и каждый мах были легче предыдущего, и коса уже будто бы сама заводилась все шире и шире, без взлетов, без единой сбитой верхушки. Каждая мышца и каждая жилочка наливались истомной легкостью, новой силою.
Х-х-х-хык!.. Х-х-х-хык!..
Он знал, что его бабы охают от натуги, но не злятся, а, наоборот, гордятся им. Знал, что кто-нибудь невдалеке сейчас обязательно остановился, и смотрит, и удивляется, а ученики также гордятся; как это он ловко и быстро косит — уже раза в три всех обошел…
«А чего удивляться! Сами своих сил люди не знают. Надо только превозмочь себя — и все. Сил у человека непочатый край — надо только превозмочь себя!..».
Иначе Василий не умел работать. Точно так же пахал, сеял, косил сено, метал стога, молотил, рубил дрова — все делал с великим азартом и удовольствием. В Кудрине никто не мог за ним угнаться. Все хлеб четыре-пять дней убирали, а они — за два.
Резьбой летом занимались мало, некогда было. Сам ведь еще всю хозяйственную снасть ладил: бороны, кадки, грабли, ясли и корыта для скота, пёхла, севалки, даже молотильную машину сделал наподобие костромской журавлевской: ящик с зубчатыми валами, который лошадь таскала по разложенным на гумне снопам, а он сам, Василий, сидел на этом ящике. В деревне впервые такую машину видели. И не просто сделал, но и разукрасил ее — по боковинам легкий орнамент пустил. И стойки кос у него были с подкрашенной резьбой. И кадки. И грабли.
В 1908 году в Кустарном музее состоялась большая персональная выставка Ворноскова. Первая в истории России персональная выставка крестьянина — кустаря-художника.
В докладе губернской земской управы ее устройство объяснялось следующим образом: «Так как многочисленные работы Ворноскова теряются в общей массе изделий и, кроме того, лучшие из них очень быстро раскупаются публикой и таким образом недоступны для полного знакомства с ними, а между тем, по мнению компетентных лиц, изделия эти представляют выдающийся художественный интерес и как по замыслу, так и по исполнению очень оригинальны и интересны — то по инициативе почетного попечителя Кустарного музея С. Т. Морозова была устроена в первый раз выставка многих работ Ворноскова». Далее в докладе сообщалось, что она имела «огромный успех. Публики было так много, что явилась мысль открыть музей на два воскресных дня (обычно по воскресеньям музей был закрыт) для осмотра без производства продажи… Многие изделия Ворноскова были распроданы… Самая мысль устройства в музее подобной выставки встретила у посетившей публики весьма большое сочувствие и вызвала пожелание, чтобы музей продолжал в этом направлении свою деятельность — знакомил публику с наиболее выдающимися образцами кустарных промыслов».
Жена и Михаил тоже собрались в Москву посмотреть эту выставку, но он вытаращил на них глаза:
— Это зачем? Сами делали, черт-те дери. Ты шкурила, полировала…
А потом серебряная медаль с выставки в Милане за коробочки, ларцы и рамки. Медаль была большой, тяжелой и очень торжественной: с двумя рельефными фигурами и с надписью по-латыни: «Работа ведет к славе того, кто ее выполняет». Это ему перевел Владимир Иванович Боруцкий. К медали прилагалась красивая грамота на муаровой бумаге, где Василия Петровича называли синьором.
И еще большая серебряная медаль из Казани за подносы и чашки. Потом за ковши из Гааги. Медаль из Америки, из Чикаго.
Как во всякой лесной стороне, дерево на Руси всегда было самым распространенным, самым освоенным и любимым материалом. Поэтому во сто раз легче вспомнить, что у нас из него не делали, чем то, что делали; ведь даже жилеты существовали лубяные, даже писали россияне долгие века на бересте.
Каждый мужик знал плотницкое или столярное дело не хуже землепашества, и сочное чмоканье топоров да веселый визг пил испокон века наполняли нашу землю так же, как вековечный шум бескрайних лесов и пение птиц. А плотники-виртуозы, столяры-виртуозы, резчики и токари по дереву всегда на равных соперничали с самыми искусными зодчими — камнездателями, златокузнецами, чеканщиками, гончарами, кружевницами.
В былине о Соловье Будимировиче рассказывается, как он велел своей дружине выстроить в зеленом саду, «в вишенье, в орешенье снаряден двор» для невесты его Забавы Путятишны:
С вечера поздным-поздно,
Будто дятлы в дерево пощелкивали,
Работала его дружина хоробрая —
Ко полуночи и двор поспел;
Три терема злотоверховаты,
Да трои сени косящеты,
Да трои сени решетчаты.
Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в терему солнце,
На небе месяц — в терему месяц,
На небе звезды — в терему звезды,
На небе заря — в терему заря —
И вся красота поднебесная.
«Пожаловал государь, — говорится уже не в художественном произведении, а в документах Оружейной палаты, — резного мастера старца Арсения за то, что он в селе Коломенском был у хоромного строения у резного дела», «пожаловал резного дела мастеров Климка Михайлова, Давыдка Павлова, Андрюшку Иванова, Гараску Скулова да ученика их». А иноземец Яков Рейтенфельс восторженно объясняет, что построенный этими мастерами коломенский загородный дворец царя Алексея Михайловича «кроме прочих украшений представляет достойнейший обозрения род постройки, так как весь он кажется только что вынутым из ларца, благодаря удивительным образом искусно исполненным резным украшениям, блистающим позолотою».