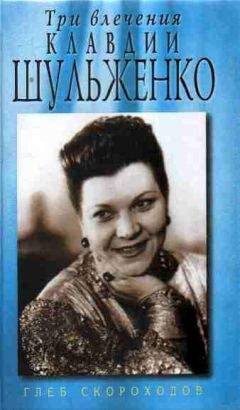Алексей Николаевич был доволен нашим творческим ансамблем, и в голове его рождались разнообразные планы, которые и я, и Каминка восторженно разделяли. Думалось о Москве, о победе, о театре. Толстой собирался написать большую, «могучую» как он говорил, пьесу-эпопею о русском народе-освободителе. И одновременно комедию – о тех, кто строит жизнь, и о тех, кто мешает жизни.
Мысль о комедии Алексей Николаевич не оставлял и в последующем, уже вернувшись из Ташкента в Москву. Её положительными героями должны были стать люди послевоенного времени – молодые инженеры. Алексей Николаевич всегда интересовался промышленностью, заводчанами. Ведь в молодости он сам учился на инженера.
Вместе с Николаем Павловичем Охлопковым и моим мужем, инженером-литейщиком, они обсуждали детали будущей пьесы. Толстому кто-то рассказал, что среди старых мастеров был известен такой фокус – перерубить тонкую струю металла голой рукой. Охлопков увлёкся возможным эффектом, и они оба стали расспрашивать Виктора Михайловича, правда ли это. Он ответил, что если рука потная, коротким взмахом можно перерубить расплавленный металл. Но на этот трюк решались немногие смельчаки.
26 февраля 1944 года Алексей Николаевич подарил мне на память фотокопию своего портрета работы художника Корина, на которой написал:
«Клавдия, обожаемая актриса, люблю твой талант и даю клятвенное обещание в этот год написать комедию для тебя.
Алексей Толстой».
К великому горю, Алексей Николаевич не дожил до Победы, в которую он так верил, для которой он столько сделал.
В середине тридцатых годов в Московском театре сатиры шёл спектакль «Дорога цветов» Катаева, в котором я играла главную роль – комсомолку Таню. На одном из спектаклей зашли ко мне за кулисы Осип Наумович Абдулов с Соломоном Михайловичем Михоэлсом. «Капочка, познакомьтесь, я привёл к вам великого артиста и великого мудреца, – сказал Осип Наумович, – ему очень понравилась ваша Таня». Из-за его спины выглядывала мощная голова с огромными навыкате глазами. Я была совершенно ошеломлена их приходом. Я видела раньше Соломона Михайловича в спектаклях и изумлялась игре этого великолепного актёра, неповторимости его интонаций, выразительности его жеста, философскому решению его образов и восхищалась им как художником-мыслителем.
Я слушала его выступления, и меня всегда поражали его ораторское искусство, его ум и особый дар говорить с актёрами на только им присущем языке.
Помню его выступления в ВТО, где он говорил, что если актёр не поэт, он не будет актёром, он будет исполнителем ролей, но он не будет автором ролей. Он может поставить стул, сесть, носить костюм, он сможет преподнести, если он красивый молодой человек, свою прекрасную внешность, но если нету него чувства образного, он не будет актёром. В профессии актёрской нужно быть поэтом – актёром, размышляющим как поэт, ведущим себя как поэт. «Я должен требовать от молодого человека, который приходит экзаменоваться, – голоса, музыкальности, но если его образ не обещает, что он может действительно быть поэтом, – он не будет актёром». Тогда же Михоэлс говорил, какой иногда бывает огромный разрыв между постановкой и пьесой. Что иногда спектакль бывает ниже пьесы или наоборот. Иногда он разыгран в чуждой тональности – пьеса прозаична, а спектакль поэтичен – или опять же наоборот. Всё это лихорадочно записывалось нами и служило темой постоянных обсуждений в актёрской среде. Естественно, мы примеряли на себя все его положения и требования.
Поэтому я была счастлива, когда Соломон Михайлович похвалил меня за катаевскую Таню. Особенно он отметил один, но очень важный эпизод. Сцена заключалась в том, что Таня, растратив общественные деньги на устройство «красивой жизни» для своего возлюбленного, была уверена, что тот отдаст ей эти деньги. Возлюбленный же, узнав о поступке Тани, возмутился и вообще отказался от неё. И тогда Таня, не найдя выхода, решает покончить жизнь самоубийством.
Николай Михайлович Горчаков—режиссёр спектакля – блестяще решил эту сцену в трагико-комедийном плане. Он предложил актрисе, то есть мне, когда Таня идёт брать наган из сундука отца, по дороге совершенно машинально взять со стола краюшку хлеба и солёный огурец. Перед тем как она решила застрелиться, она осматривает наган и, горько плача, произносит монолог о своей невиновности. Во время монолога Таня то прикладывала наган к сердцу, то засовывала в рот, потом вынимала его, аккуратно вытирала рукавом и, горько плача, в это же время смачно, в ожесточении ела огурец с хлебом. И чем трагичнее она говорила, тем с большей остервенелостью продолжала есть. Вот эта противоположность её состояния и её здорового начала доходила до публики стопроцентно.
Соломон Михайлович хвалил меня за то, что я ни разу не скомиковала, что мои страдания были поистине велики и что я сама не замечала, с каким аппетитом ела свою краюшку хлеба с огурцом. «Это воистину было смешно и трагично», – сказал он.
В те годы я бывала на многих спектаклях Михоэлса, особенно на тех, которые оформлял Саша Тышлер. С ним мы познакомились и подружились у Соломона Михайловича. Незабываем великий Михоэлс – Лир, прекрасен Тевье-молочник. Но особенно мне вспоминаются «Блуждающие звёзды», светлый спектакль последней предвоенной весны.
Вскоре мы подружились домами. Абдуловы и Михоэлсы были у нас на новоселье, когда мы с мужем получили первую маленькую квартиру на Плющихе. Этой квартирой мы очень гордились. С жильём в Москве было отчаянно трудно. Михоэлсы жили в одной комнате. (К Соломону Михайловичу пришёл гость из провинции, огляделся и воскликнул: «И так живёт народный артист?!» Михоэлс в ответ: «Какой народ, такой и народный артист».) С нашим новосельем, правда, получился небольшой конфуз. Мы пригласили дядю мужа – известного харьковского хирурга, который в те дни был в Москве. Останавливался он всегда в «Метрополе». Старик огромного роста, он вошёл, пригнувшись в дверях, сел за стол, хвалил хозяйку, гостей, еду, но о квартире ни слова не сказал. Наконец, мы не выдержали и говорим: «Ну, а квартира, квартира-то как?» Он немного смутился, развёл руками и проговорил: «Дети мои, по нынешним временам и так неплохо, но раньше (он помолчал), раньше, если я приходил в такую квартиру, то денег, конечно, я не брал».
Война и эвакуация вновь соединили нас с Михоэлсами в Ташкенте. Я участвовала вместе с Соломоном Михайловичем в благотворительных концертах в пользу эвакуированных детей. В этих концертах, душой которых была прекрасная балерина Тамара Ханум, принимали участие и Николай Черкасов, и Иван Козловский, и Анна Андреевна Ахматова, да кто только не участвовал. Старались не унывать, вспоминали времена и привычки Гражданской войны.