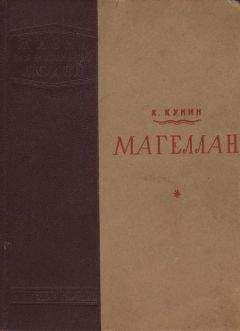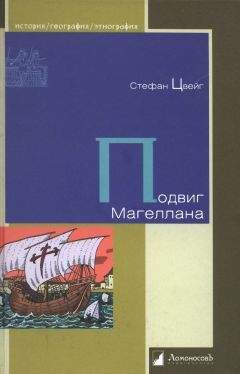— А много таких? — спросил командир, движением головы указывая на только что вскрытую бочку.
— Почти все, которые мы теперь вскрываем, — ответил тихо писец. — Но что удивительнее всего — рядом попадаются бочки с превосходной мукой. Значит, еще в Испании на корабль погрузили бочки с испорченной мукой.
Магеллан медленно поднялся по узкой лестнице наверх. Угроза голода во весь рост встала перед ним, и внезапно он вспомнил красивое и наглое лицо Себастиана Альвареша, и его прощальные слова вновь прозвучали в ушах командира: «Поступайте так, как находите нужным, но помните — впереди вас ждут многие испытания».
Вечером Магеллан приказал тщательно экономить продовольствие и воду. Испорченную муку сушили на солнце и просеивали. На всем корабле был слышен тяжелый, затхлый запах. Первое время моряки не хотели есть хлеб из прогорклой и затхлой муки. Но неделя проходила за неделей. Все так же днем пекло солнце, а по ночам сияло созвездие Южного Креста, все так же синел безбрежный океан. Понемногу люди перестали гнушаться хлебом и лепешками, испеченными из затхлой муки. Но потом и эта мука стала приходить к концу. Оставалось мало воды — тухлой и желтой. Сначала шепотом, по углам, потом громко, хотя и полушутливо, стали поговаривать, что пора взяться за крыс: «Они съели и испачкали нашу муку — пусть теперь поплатятся», смеялись матрасы.
Такие грустные шутки продолжались лишь несколько дней. Как-то утром Антонио Родригес, старый солдат, воевавший с турками, французами и мавританскими пиратами и побывавший в алжирском плену, вышел на палубу с пойманной крысой. Он сварил ее в котелке и съел на глазах у товарищей. С этого дня началась охота на крыс. Их ловили в самодельные ловушки, убивали мечами, а потом пекли и варили. Но скоро и крыс стало мало. Более ловкие охотники продавали крыс товарищам.
Антонио Пигафетта похудел. Он чувствовал недомогание, суставы его болели, десны распухли и кровоточили, зубы шатались. Но он по-прежнему старательно записывал в свой дневник все то, что, по его мнению, могло интересовать его влиятельных покровителей — флорентинских купцов и банкиров.
Итальянец писал: «Вода, которую мы принуждены были пить, была тухлая и вонючая; мы ели кожу, которой, чтобы веревки не перетирали дерева, покрывают снасти. Эта кожа под действием воды, ветра и солнца так затвердела, что ее нужно было размачивать в морской воде в течение четырех-шести дней. Затем мы пекли ее на угольях и ели. Часто мы питались древесными опилками, и даже крысы, столь противные человеку, сделались таким изысканным блюдом, что за них платили по полдуката за штуку».
Беспредельный океан стал страшить путешественников. Пигафетта пишет: «Я не думаю, чтобы кто-нибудь в будущем хотел предпринять подобное путешествие. Если бы, выйдя из Патагонского пролива, мы держались западного направления, то объехали бы вокруг света, не встречая на пути никакой земли: от мыса Желанного мы пришли бы к мысу Одиннадцати Тысяч Дев, так как они оба лежат под 52° южной широты»[62].
Новая беда подкараулила испанцев. На кораблях появилась цынга. Тогда еще не знали, что с этой страшной болезнью можно бороться, если моряков снабжать разнообразной пищей и особенно зеленью. Обычно от цынги погибало множество моряков.
Первым заболел один из захваченных в бухте Сан-Хулиан патагонцев, плывший на «Виктории». Он оказался добрым и смышленым человеком, быстро освоился на корабле и особенно полюбил шумного Дуарте Барбоса и вежливого Антонио Пигафетту.
Барбоса скоро нашел общий язык с пленником. Он велел расковать его и сам заботился, чтобы его кормили. По утрам он громко кричал ему приветствия, мешая португальские, индусские и арабские слова. Пленник ничего не понимал, но громкий, раскатистый смех капитана говорил яснее слов. Пленник радостно улыбался и отвечал непонятным патагонским приветствием.
По-иному вел себя Пигафетта. Антонио помнил о поручениях итальянских купцов и банкиров. По целым дням просиживал он с патагонцем и, показывая на различные предметы, старался записать необычайно трудные для европейца патагонские названия. Патагонец так привык к этому, что, видя Пигафетту, сам спешил ему навстречу, приветствуя его первыми, пришедшими на память патагонскими словами.
Пигафетта терпеливо записывал все, что мог понять у патагонца. Кто знает, быть может, когда-нибудь европейцы наладят торговлю с Патагонией и построят там крепости и города. Тогда его патагонский словарь станет незаменимым, а ему, Антонио Пигафетте, будет обеспечена сытая старость, да и вся команда полюбила веселого, общительного патагонца. Пленник часто забавлял моряков, засовывая глубоко в горло стрелы и тонкие палочки. Антонио Пигафетта вообразил даже, что это один из приемов туземной медицины[63]. Патагонец удивлял всех огромным аппетитом.
Карта Западного полушария (1596 г.).
На этой карте изображена огромная «Южная Магелланова Земля». В левом верхнем углу фигура Христофора Колумба, в правом верхнем углу — Америго Веспуччи; в нижнем левом углу — Магеллана; в правом нижнем углу — Франциско Писсаро.
Но через две недели после того, как корабль вышел в Тихий океан, патагонец заболел. Он перестал есть, у него стали кровоточить десны. Один за другим выпадали зубы. Патагонец слег. Однажды утром его нашли мертвым.
— Тоска по родине, — решил Пигафетта.
— Нет, друг, — ответил Дуарте, — это новая, еще малоизвестная болезнь. С тех пор, как моряки начали уходить далеко в открытое море, она стала страшной гостьей на кораблях. Спасение от нее — высадка на берег. Но нам предстоит долгое плавание по океану, и я уверен, что пленник наш будет не единственной жертвой этой новой чумы.
Дуарте оказался прав. Цынга косила одного за другим. Больные валялись в трюмах и на палубах. Во время плавания переболело цынгой около пятидесяти моряков; девятнадцать человек умерло.
Путешественники с тоской всматривались в даль. Но спокойный океан был пустынен.
Магеллан переносил все тяготы пути наравне с простыми матросами и часто отказывался от своей чарки воды в пользу больных. Он осунулся, раненая нога его опять разболелась, глаза ввалились, в черной густой бороде появилась седина.
По горькой иронии судьбы, он полностью выполнил зарок, который дал у входа в Магелланов пролив, — ел кожу с корабельных снастей, но вел корабль вперед.
По-прежнему он ободрял товарищей. Несмотря на хромоту, он был очень ловок и почти все время был в движении. Его небольшая фигура появлялась всюду: на верхней палубе, у бочек с протухшей водой, в камерах, где хранились порох и оружие, в каютах, где стонали больные.