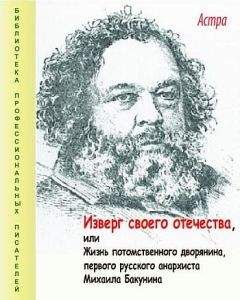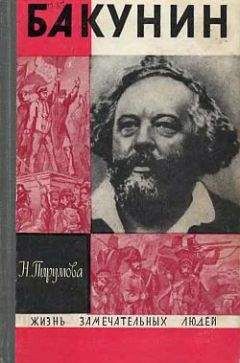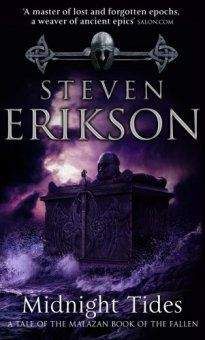В Прямухино получили его отчаянное письмо о необходимости для него классического образования, потому что дилетантство никогда не доставит ему профессорского места! Старика-отца оно лишний раз утвердило во мнении об его инфантильности и неискоренимом эгоизме. Подумав, он решился не препятствовать сложным метаниям сына.
— Ты, как новый Дон-Кихот, влюбился в новую Дульцинею, и, увлекаясь мечтательными ее прелестями, совершенно забыл все твои обязанности, — ответил он. — Делай, как знаешь, но более тысячи рублей в год я дать тебе не в состоянии.
Другое письмо, полное надежд и вздохов, получил от него Станкевич.
— Мне двадцать пять лет, — удрученно жаловался Мишель, — я делаю последние усилия, чтобы как-нибудь попасть в Берлин, от которого я ожидаю перерождения, крещения от воды и духа, но не знаю, удастся ли мне.
И добавлял, что по возвращении он рассчитывал бы сдать магистерские экзамены, и даже поступить на гражданскую службу в ожидании удобного случая для занятия профессорской кафедры в одном из русских университетов, чтобы читать лекции, подобно Грановскому. А если не удастся, то хоть снова надеть военный мундир и отправиться на Кавказ!
Его письмо застало Станкевича в Италии. Землячество разъехалось, с ним оставался один Ефремов. Они странствовали по побережью, останавливались в Риме, Венеции, наслаждаясь благотворными впечатлениями от искусства. Станкевичу казалась, что здоровье его поправляется, он даже собирался по осени домой.
— Полно, Миша! Не ложиться! — ответил он Мишелю. — Тебе двадцать пять! Эка беда! Как будто измерено, в какую эпоху дух перестает действовать в человеке! Никогда! Хоть в тридцать! Хоть начать в тридцать! Бодрость, смелость, любовь, дело! У всякого своя очередь, никто не назади и не впереди. Ты создан для доброго дела, ты не должен сомневаться в своем назначении. Истина требует одной чистоты душевной. Ну, с Богом! Прощай — будь здоров, светел и смотри на все sub specie geternitatis (с точки зрения вечности).
Варенька писала к нему. С сыном и гувернанткой она тоже жила за границей, боясь возвращения на родину. Развод ее, стараниями брата, становился реальностью, но ее пугала возможность Николая Дьякова отнять сына. Дьяков же писал ей почти со слезами, что никогда не станет ничем тревожить ее, что все отдаст в ее волю и даже сына увидит, когда тот сам этого пожелает, когда помощь отца станет ему нужна. И просил за что-то прощения, чувствуя себя виноватым, и умолял ее написать ему хоть несколько слов собственной рученькой. Все это было тягостно. От сестер тоже не было утешения. В Прямухино, по их словам, стало мертво и тесно.
Ее тянуло увидеться со Станкевичем. В его письмах также постоянно сквозили надежды на встречу, он приглашал ее то в одно место, то в другое. Их многое связывало. Теперь, два года спустя после смерти Любиньки, здесь, на чужбине, они давно стали родными душами. Близкие внутренне, они оба предчувствовали счастье соединения. Но Вареньку останавливали легкие сомнения в искренности Николая, она помнила его вежливую нежность в письмах к сестре.
Наконец, летом 1840 года она решилась.
Николай очень изменился. Он был бледен, голос его был тих и слаб, он покашливал. Сердце ее сжалось. Они всматривались друг в друга с бесконечной любовью и признались со всей откровенностью, что давно уже любят друг друга. «Высшее существо» его светилось в его глазах, в шутках, в письмах друзьям, в мечтах об огромном историческом и философском труде, за который он возьмется по приезде домой. С Ефремовым, бонной и маленьким Сашенькой они предприняли переезд во Флоренцию.
По пути туда две недели спустя после встречи с Варенькой, они остановились на ночь в одной из придорожных гостиниц. Станкевич и Ефремов заняли одну комнату, пожелали друг другу доброй ночи, намереваясь наутро продолжить путешествие. Когда же с рассветом друг стал будить его, то увидел, что Николай мертв. Он скончался тихо, в уголках губ его осталась легкая улыбка.
В Россию весть и кончине Станкевича пришла небыстро и отозвалась болью во всех, кто его знал. Друзья собрались, чтобы воздать в искреннем проникновении его светлой памяти, кто не смог, написал, передал свою печаль.
— Не только мы, друзья Станкевича, но два или три поколения студентов Московского Университета предчувствовали в нем какую-то новую силу, ждали, чтобы он высказался, — тихо говорили за столом.
— Необыкновенный человек, гениальная душа, божественная личность, гордость и надежда, призванный на великое дело…
— Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Подумайте о том, что был каждый из нас до встречи с ним?
Наконец, Белинский сказал в заключение общее слово.
— Нам посчастливилось. Все мы обязаны ему полнотой нашей душевной жизни, я — более всех. Если мне суждено совершить что-нибудь в жизни — то будет делом Станкевича, который вызвал меня из ничтожества. Впрочем, не со мной одним он это сделал. Кто знал близко Станкевича, для тех он не умер.
От произведений Николая Станкевича не осталось почти ничего. Стихотворений своих он не подписывал, печатался мало. Но нравственная чистота этого человека была столь очищающа, что оказала воздействие на всю русскую словесность, на развитие всего русского общества. Один человек!… Лет через двадцать младший брат его издал томик светлых писем Николая Станкевича. Уместно привести отклик Льва Толстого, тогда же прочитавшего их.
— Никого никогда я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел.
Между тем, Мишелю повезло. Чета Герценых пригрела его, в их доме он вновь ощутил почти родственную ласку и семейную отраду. Особливо жена его, святое любящее, истинно женственное существо. Под сильным впечатлением он, наконец-то, вывел для сестер новые, старые как мир, правила жизни и даже, не без посторонней помощи, признал прошлые ошибки.
— … Да, друзья, назначение женщины быть гением-хранителем семейной жизни есть великое святое назначение, не уступающее в величии, в бесконечности содержания никаким деятельностям мужского пола. Видишь, милая Саша, как во мне сильна привычка болтать и проповедовать ни к селу, ни к городу.
Александр Герцен, как и Грановский, увидел в Бакунине мощную мятущуюся личность, которая ищет поле деятельности. Он помог ему деньгами. Теперь дорога в Берлин была открыта.
Радостный, полный самых радужных надежд, стряхнувший с себя мутную тоску последних месяцев, Мишель как на крыльях примчался в Петербург. Вошел в редакцию «Отечественных записок» к Белинскому, растормошил, взбодрил, разговорил его. Для Виссариона много и не нужно было, чтобы вновь признать в Мишеле брата своей души. Перебивая друг друга, они пошли по Петербургу, размахивая руками, покупая у лотошников расстегаи, по старой привычке не стесняя себя разговорами, какими бы сложными и запретными они не казались. Старое доброе время простерло над ними свою умиротворяющую сень.