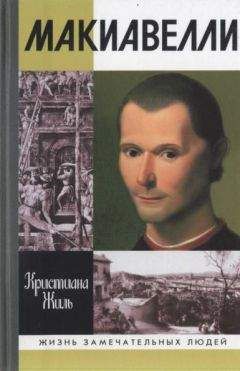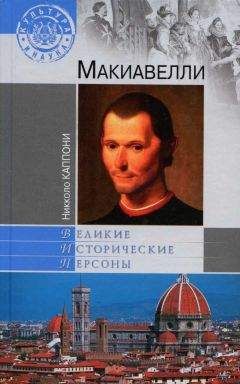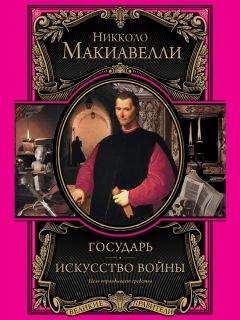Немаловажен и физический облик солдата, у которого «должны быть живые и веселые глаза, крепкая шея, широкая грудь, мускулистые руки, длинные пальцы, втянутый живот, полные бедра, худые ноги; такой человек всегда будет ловок и силен – два качества, которые в солдате ценятся выше всего». Не следует забывать и о моральных качествах: «Особенное внимание надо обращать на нравственность: солдат должен быть честен и совестлив; если этого нет, он становится орудием беспорядка и началом разврата, ибо никто не поверит, что дурное воспитание может создать в человеке хотя бы крупицу достохвального воинского мужества».
Собственно дидактическая часть трактата завершается, как и у Вегеция, перечислением двадцати семи «общих правил», в которых автор в самом сжатом виде («Обезоруженный богач – награда бедного солдата») резюмирует сказанное выше по поводу ведения сухопутных операций («О морском деле я говорить не решаюсь, потому что совершенно его не знаю»), но главным образом призывает к подлинному воспитанию солдата:
Могу ли я заставить нынешних солдат носить другое, более тяжелое оружие, кроме трехдневного запаса продовольствия и кирки? Как заставлю я их рыть окопы или каждый день обучаться по нескольку часов в полном вооружении, чтобы сделать из них настоящих воинов, годных для большой войны? Как могу я отучить их от игры, разврата, богохульства и ежедневных безобразий? <…> Какими средствами могу я пристыдить людей, родившихся и выросших без понятия о чести?[89]
Эту задачу невозможно решить, пока итальянские государи сами не изменятся:
Наши итальянские князья еще не испытали на себе ударов войны, нагрянувшей с севера, они считали, что правителю достаточно уметь написать ловко составленное послание или хитрый ответ, блистать остроумием в словах и речах, тонко подготовить обман, украшать себя драгоценностями и золотом, есть и спать в особенной роскоши, распутничать, обирать и угнетать подданных, изнывать в праздности, раздавать военные звания по своему произволу, пренебрегать всяким дельным советом и требовать, чтобы всякое слово князя встречалось как изречение оракула. Эти жалкие люди даже не замечали, что они уже готовы стать добычей первого, кто вздумает на них напасть. Вот откуда пошло то, что мы видели в 1494 г., – весь этот безумный страх, внезапное бегство и непостижимые поражения; ведь три могущественнейших государства Италии были несколько раз опустошены и разграблены (кн. VII).
Государи-гуманисты, предающиеся ученым занятиям в тиши кабинетов, не способны, по мнению Макиавелли, понять, что время требует от них совсем иного: «Но самое страшное даже не в этом, а в том, что уцелевшие властители пребывают в прежнем заблуждении и живут в таком же разброде. Они никогда не подумают о примерах людей древнего мира, которые в своем стремлении к власти делали сами и заставляли других делать все, о чем мы сегодня говорили, закаляли свое тело и приучали свою душу ничего не бояться». Новый государь должен брать пример с великих правителей прошлого – Цезаря и Александра: «Их можно отчасти упрекнуть в чрезмерном властолюбии, но в них не было никогда и тени дряблости, изнеженности или робости. Если бы наши князья когда-нибудь прочли их жизнеописание и прониклись их примером, они не могли бы не изменить своего образа жизни, а с этим, конечно, изменились бы и судьбы их стран». Отсюда – призыв, перекликающийся с последними строками «Государя»: «Я утверждаю, что тот итальянский князь, который первым вступит на мой путь, будет властелином всей страны». Действительно, для Италии еще ничего не потеряно: «Наша страна как бы рождена для воскрешения всего, что исчезло, и мы видели это на примере поэзии, живописи и скульптуры», но молодые друзья Макиавелли по садам Оричеллари должны подхватить факел из его рук: «Вы молоды, занимаете высокое положение и, если согласитесь со мной, можете в нужный момент воспользоваться благосклонностью к вам князей и быть их советниками в преобразовании военного дела». Фабрицио Колонна, за репликами которого нам слышен голос Макиавелли, сокрушается: «Я считаю себя вправе роптать на судьбу, потому что она должна была либо отказать мне в возможности познания таких истин, либо дать мне средства осуществить их в жизни. Теперь, когда я стар, случая к этому, конечно, больше не представится». Это горькое сожаление об утраченных возможностях: «Если бы судьба в прошлом дала мне необходимую власть, я в самое короткое время показал бы всему миру непреходящую ценность античных воинских установлений. Верю, что мог бы вознести свою родину на высоты могущества или, по крайней мере, погибнуть без позора».
Адресованный правителю в качестве учебного пособия, трактат «О военном искусстве» многих сбил с толку своей дотошностью; его критики утверждали, что применить на практике подобные рекомендации невозможно. Макиавелли упрекали в том, что он, не имея специальных знаний, лишь теоретизирует. В «Новеллах» Банделло выведен персонаж Формиона – философа-болтуна, о котором Ганнибал (представленный в образе Джованни делле Банде Нере), послушав его рассуждения об искусстве войны, говорит: «Много я повидал на своем веку безумных старцев, но этот хуже всех». Брантом назвал его «никогда не воевавшим военным наставником», а Бонапарт во время ссылки на острове Святой Елены писал, что его мысли о ведении войны напоминают ему рассуждения слепца о красках. Вместе с тем Монтень упоминает его имя в одном ряду с такими авторитетными стратегами, как Цезарь, Полибий и Коммин, а маршал Мориц Саксонский использовал трактат Макиавелли при работе над своей «Теорией военного искусства». Фактически подробнейшее описание устройства военного лагеря и ведения боевых операций, в связи с которыми об убитых и раненых говорится исключительно с точки зрения заполнения образующихся в боевых порядках брешей, интереса у потомков не вызвало, чего не скажешь о предложениях автора, касающихся воинской повинности. Сама по себе эта идея была отнюдь не нова, а войско, собранное Макиавелли во время осады Прато, оставляло желать много лучшего, но он первым ясно и недвусмысленно заявил, что с войнами прошлого покончено. Национальные армии доказали свою эффективность, и городам-государствам следовало взять их за образец. Идея всеобщей воинской повинности носилась в воздухе, и Макиавелли сумел ее точно сформулировать. Трудно определить, в какой степени концепция «вооруженного народа» обязана своим появлением трактату «О военном искусстве», но не будем забывать, что этот труд не остался незамеченным во вновь созданных Соединенных Штатах: президент Джефферсон держал его в своей библиотеке, а в 1815 г. в Олбани вышел его перевод, озаглавленный «О военном искусстве. Сочинение в семи книгах Никколо Макиавелли с приложениями относительно ведения боевых действий, составленными джентльменом из штата Нью-Йорк».
Поручения локального характера
10 марта 1520 г. Макиавелли наконец выходит из тени. Из письма его друга банкира Филиппо Строцци мы узнаем, что брату последнего Лоренцо с помощью некоторых друзей удалось добиться для Макиавелли встречи с кардиналом Джулиано Медичи. День 26 апреля принес опальному политику еще одну хорошую новость: Баттиста делла Палла, его добрый знакомый по садам Оричеллари, сообщил ему из Рима, что папе Льву X понравилась пьеса «Мандрагора» и он одобрил ее постановку, а также выдал кардиналу разрешение назначить Макиавелли денежное содержание, которое позволит ему продолжать заниматься литературной деятельностью «или чем-либо иным». Это было не бог весть что – никакой должности Макиавелли не получил, зато приобрел признание как писатель, против чего он, насколько мы можем судить, нисколько не возражал. Деньги ему должны были заплатить только в сентябре, а пока этого не произошло, в июле он отправился в Лукку (по всей видимости, по личному поручению кардинала) для улаживания запутанной коммерческой сделки, в которую было вовлечено родственное папе семейство Сальвьяти. Речь шла о банкротстве купца Микеле Гуиниджи. Макиавелли, явно обрадовавшись возможности приложить усилия хоть к чему-то, берет на себя роль бухгалтера и юриста: ему предстоит оценить стоимость имущества этой ветви клана Гуиниджи – одного из двух самых влиятельных в городе, а затем добиться приоритетной выплаты долга тем, кто его нанял, то есть настоять на том, чтобы коммерческие долги были выплачены в первую очередь в ущерб другим, менее достойным уважения, иначе говоря, карточным.
Когда-то Макиавелли еще в Генуе доказал, что обладает кое-какими познаниями в данной области. 17 июля он тронулся в путь, снабженный рекомендательными письмами к Совету девяти старейшин Лукки (ревнивые члены Синьории уничижительно именовали его «неким Макиавелли»), и в кратчайшие сроки исполнил поручение. Но к нему по-прежнему относились как к человеку, готовому на любые услуги, и по завершении основной миссии попросили разобраться еще с парой мелких дел: какой-то темной историей, связанной с печатанием денег, и поиском пизанских студентов, повинных в некоторых излишествах и укрывшихся в Лукке. Это заняло определенное время и потребовало от Макиавелли обращения с письмами к множеству лиц, но он находился не в том положении, чтобы отказываться от какой бы то ни было работы. В промежутках между решением этих пустяковых задач он еще успевал ознакомиться с историей и устройством Лукки. Годы вынужденной праздности нисколько не ослабили его хватки, и очень скоро он направил во Флоренцию мемуар под названием «Краткий очерк о положении дел в Лукке» (Sommario delle cose della città di Lucca). За несколько лет до того он писал подобные очерки о «положении дел» во Франции и Германии, но на сей раз его внимание привлек небольшой, но типично итальянский – богатый и беспокойный – город, с которым Флоренция поддерживала неровные отношения. За критической оценкой институций Лукки угадывается подспудное стремление Макиавелли убедить власти Флоренции в необходимости реформирования системы управления городом.