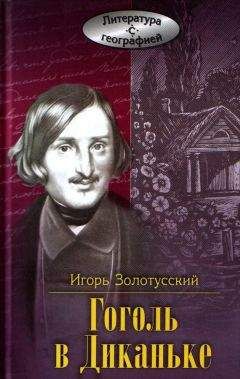– Чи дома, брате Миколо? – спросил он по-малорусски.
– А дома ж, дома! – негромко ответил кто-то оттуда.
Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У порога ее стоял Гоголь.
Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу… и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева.
– А где ж наш певец? – спросил, оглядываясь, Бодянский.
– Надул, к Щепкину поехал на вареники! – ответил с видимым неудовольствием Гоголь. – Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда.
– А может быть, и так! – сказал Бодянский. – Вареники не свой брат.
…Я не спускал глаз с Гоголя. Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной (слухи о душевной болезни Гоголя ходили по Москве. – И. 3.) или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности.
Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которых поверх атласного черного галстука виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный сухой нос придавал этому лицу и сидящим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно задумчивые аисты».
Записные книжки Гоголя говорят и о хозяйственных заботах, об укладе его жизни в доме на Никитском – укладе жизни холостяка, который сам должен заботиться о себе. «Купить материи нитяной на фуфайку, – записывает он, – ящики для посылок. Сапоги. Железноводской воды. Бумага серая».
Автограф писателя
Одна надпись гласит: «Наменять денег для бедных». Простота и непритязательность гоголевского быта поражали даже и тех, кто не очень привык к роскоши. Это была почти аскетическая простота и аскетическая непритязательность. Ничего лишнего, никаких дорогих вещей, любимых безделушек, предметов, не нужных на каждый день, для постоянного обихода. Книги, тетради для писания, перья, склянка для перьев, одна шуба, одна шинель. В описи гоголевского имущества, оставшегося после него, нет ни одной вещи, которая стоила бы дороже 15 рублей. Все, кроме часов, шубы и шинели, оценивается в копейки. «После Н. В. Гоголя, – писал С. П. Шевырев, – осталось в моих руках от благотворительной суммы, которую он употреблял на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством, 2533 рубля 87 коп. Его карманных денег – остаток от вырученных за второе издание «Мертвых душ» – 170 р. 10 к.».
Живя в долг, не имея собственного угла, он привык обходиться самым насущным, не думая об удовольствиях, которые позволяли себе люди его звания. Он отказался в пользу матери от своей доли в имении, он посылал деньги сестрам, раздавал их крестьянам в Васильевке, помогая тем, у кого пал скот или покосилась хата, кто не от праздности, а от болезней или неурожая впадал в бедность.
При нем постоянно была только одна движимость и недвижимость – его портфель с рукописями. Это было и его имущество, и богатство. К нему присоединялся один дорожный чемодан.
Но чемодан этот уже более не упаковывался. Наступил январь 1852 года. Гоголь все еще был бодр, выезжал с визитами, правил корректуру собрания сочинений. «Мертвые души» были готовы и переписаны. Все ждали отдачи их в цензуру, а затем и в печать.
Внезапно настроение Гоголя переменилось. Он передумал печатать второй том и занемог. 26 января неожиданно умерла Екатерина Михайловна Хомякова, родная сестра поэта Языкова. К этой женщине Гоголь был нежно привязан, ее сына, названного Николаем, крестил.
Хомякова умерла совсем молодой, от неизвестной болезни. Эта смерть, как и смерть Иосифа Вьельгорского в свое время, подействовала на Гоголя сильно. «Теперь для меня все кончено», – сказал он Хомякову. Он не явился на похороны и заперся дома.
Приближался Великий пост. Гоголь умерил свой стол, отказался от скоромного (чего он ранее не делал даже в недели поста), сделался худ и бледен. Он никого не принимал, сидел в кресле и что-то писал на обрывках бумаги. Некоторые из этих его записок сохранились. На них – обрывки молитв, заповедей самому себе, рисунки пером. На одном из таких рисунков изображен профиль человека, который выглядывает изнутри раскрывшейся книги. Профиль человека очень похож на профиль Гоголя.
Кажется, Гоголь принял какое-то решение, хотя колебания, сомнения все еще одолевают его. Ведь он писал и говорил, что не работать для него – значит не жить. Если он не способен работать, продолжать сделанное, ему остается проститься с жизнью, уйти. Неудовольствие собой смешивается в этих переживаниях с недовольством написанным. Второй том жжет сердце Гоголя, он кажется ему несовершенным. А выдавать в свет несовершенное он не привык. Это соблазн, обман для читателя и для писателя.
Странное поведение Гоголя в последние дни его жизни, тем не менее поведение ясно сознающего меру своих сил писателя. Он пробует обратиться к кому-то за советом, просит А. П. Толстого передать рукопись второго тома на отзыв митрополиту Филарету, боясь, что сам в праведном гневе уничтожит ее. Толстой отговаривает его и оставляет рукопись при Гоголе.
В ночь на 11 февраля Гоголь сжигает второй том поэмы. В огонь летит труд многих лет, жизнь, прожитая в этом труде и ее надежды. Хомякову, приехавшему навестить его, Гоголь говорит: «Надобно же умирать, а я уже готов и умру». Толстому он признается: «Я готовлюсь к такой страшной минуте».
Само сожжение рукописи было совершено в трезвом уме и при ясной памяти. Гоголь бросил в огонь не все бумаги, а лишь те, которые обрек уничтожению. Остались целы письма Пушкина к нему, письма Жуковского, собственные его письма. Кое-что он отложил в сторону – черновики второго тома, черновик «Размышления о божественной литургии», «Авторскую исповедь».
Сжегши бумаги, Гоголь заплакал. Он обнял присутствовавшего при этом служившего ему мальчика (Семена Григорьева) и вернулся на правую половину дома. Сожжение произошло в левой от входа половине, причем дрова в камине не разгорались. Гоголь поджигал углы тетрадей свечой, они загорались и гасли, он вновь поджигал, потом бросил в камин и ждал, когда они займутся все.