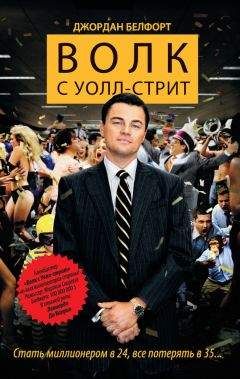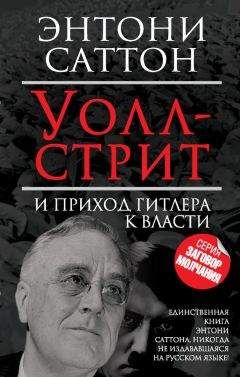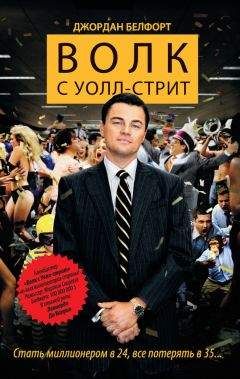Дэнни, кажется, обиделся:
– Ты что, меня за дурака держишь?
Я рассмеялся:
– Да вовсе нет! Твоя голова не настолько квадратная, да и серое вещество в ней водится. Но, послушай, я говорю на полном серьезе: очень важно, чтобы ты сидел сзади и внимательно наблюдал. Попробуй раскусить, что на самом деле на уме у этих лягушатников. Я совсем не могу читать их язык жестов. Я начинаю подозревать, что им нечего нам предложить. Во-вторых: что бы там ни было утром – сейчас не важно, насколько удачно мы из этого выкрутимся, – с этой встречи мы должны уйти, показав, что не заинтересованы. Так надо, Дэнни. Мы скажем, что это не связано с нашими делами в Штатах – просто мы решили, что это не для нас. Я приведу им какую-нибудь вескую причину после того, как они меня просветят в вопросах законности, договорились?
– Нет проблем, – несколько озадаченно сказал Дэн. – Но почему?
– Из-за Каминского, – сказал я. – Он собирается тоже заявиться на встречу, а я совершенно не доверяю этому придурку. Говорю тебе – я совершенно не в восторге от этого швейцарского махинатора. Не знаю почему, но у меня дурные предчувствия. Если уж мы решим впутаться в это, Каминскому об этом знать незачем. Иначе мы можем только навредить себе. Может, мы используем другой банк, если не откажемся от нашей затеи, может, остановимся на этом. Уверен, что они тоже не заинтересованы в Каминском.
Как бы там ни было, главное – чтобы в Штатах никто об этом не пронюхал. Мне по барабану, Дэнни, насколько ты укуриваешься, сколько кваалюда ты сжираешь и сколько кокса вынюхиваешь. Но об этом деле – никому ни слова. Ни Мэддену, ни твоему отцу, ни тем более твоей жене – усек?
– Буду хранить молчание по гроб жизни, дружище, – кивнул Дэнни.
Я улыбнулся, тоже кивнул и, замолчав, выглянул в окно. Это было сигналом для Дэнни, что я больше не расположен поддерживать разговор, и Дэнни тут же это понял. Остаток пути я провел, рассматривая в окно безукоризненно чистые и аккуратные улицы Женевы – искренне удивляясь тому, почему у этих лягушатников не валялось на тротуарах ни мусора, ни даже соринки, а на стенах не красовалось ни единого граффити. Потом я задумался: а почему из всех людей на земле именно я взялся за это дело? Оно выглядело незаконным, рискованным, и браться за него было крайне опрометчиво.
Один из моих первых учителей, Эл Абрахамс, не раз внушал мне, чтобы я сторонился иностранных банков. Он говорил, что с ними запросто можно нарваться на неприятности. И особенно предостерегал меня от того, чтобы доверять швейцарцам – стоит американскому правительству нажать на них, и они сразу же сдадут тебя. Ведь все швейцарские банки имели свои филиалы в Штатах и поэтому были чувствительны к давлению властей.
Советы Абрахамса были очень ценными. И он был самым предусмотрительным человеком из всех, кого я знал. Он хранил в своем кабинете старые ручки, разменявшие второй, а то и третий десяток лет. И если требовалось подписать какой-нибудь документ задним числом, он подписывал его чернилами, почтенный возраст которых подтвердил бы даже газовый хроматограф, не говоря уж о самых опытных криминалистах ФБР!
Как-то раз, когда я еще только начинал, мы с Абрахамсом завтракали в «Севилл-Дайнер» на Маркус-авеню, примерно в миле от тогдашнего офиса «Стрэттон» и всего в паре минут ходьбы от моей нынешней штаб-квартиры. Абрахамс угостил меня кофе с орехово-фруктовым тортом «Линцер», а заодно преподал мне краткий исторический анализ эволюции фэбээровских законов. Он доходчиво объяснил мне, откуда в них что взялось, какие промашки допускали финансовые махинаторы в прошлом и как потом по следам этих промахов были написаны законы. Я все это усвоил, не сделав ни одной заметки, тем более что на любые записи у Абрахамса был наложен строжайший запрет. Сделки с ним скреплялись не пером и печатью, а рукопожатием. Его слово было дороже любой подписи, и он никогда не нарушал его. Да, конечно, мы обменивались документами в случае крайней необходимости, но только такими, что были тщательно состряпаны лично Абрахамсом, и ручки для подписей были, конечно, подобраны с особой тщательностью. И в то же время любой из этих документов ничего не стоило оспорить, что, конечно, делало их особо надежными.
Абрахамс многому научил меня. И главное, что я зарубил себе на носу: любая сделка – любая операция с ценными бумагами, любая транзакция – оставляет письменные следы, то есть улики. И если эти письменные улики не доказывают твою невиновность или хотя бы не подкрепляют какое-то твое альтернативное объяснение транзакции, то рано или поздно федеральные власти предъявят тебе обвинение.
Так что я был очень осторожен. С самого рождения «Стрэттон-Окмонт» каждая сделка, которую я заключал, каждый перевод, который делала от моего имени Джанет, каждая сомнительная транзакция – все они оформлялись или, как говорили на Уолл-стрит, «подбивались» различными бумагами с отметками времени, а иногда даже заказными письмами. Все эти документы в совокупности обеспечивали мне прикрытие: возможность альтернативного объяснения, которое могло бы помочь мне избежать потенциально угрожавшей мне уголовной ответственности.
А теперь Абрахамс сидел в тюрьме в ожидании приговора. И представьте себе – за отмывание бабок. Как он ни осторожничал, но одним негласным законом он все же пренебрег. А закон этот был прост: не обналичивай за один раз со своего счета больше 9999 баксов, потому что начиная с десяти штук ты обязан заполнить налоговый формуляр. Эта мера была введена для того, чтобы отслеживать наркодилеров и всяких там мафиози, но применялась, конечно, и к законопослушным гражданам США.
Абрахамс вдолбил в мою голову и еще одно правило: если тебе вдруг звонит деловой партнер, нынешний или бывший, и заводит разговор о каком-нибудь давнем дельце, то девять против одного – он сотрудничает «с ними». Так получилось и с самим Абрахамсом.
Когда он мне позвонил и каким-то странным, скрипучим голосом прокаркал зловещее «Слушай, а помнишь, как…», я сразу понял: он угодил в переплет. Вскоре после того мне позвонил один из его адвокатов и сообщил, что Абрахамсу предъявили обвинение и было бы очень здорово, если бы я выкупил его долю во всех наших общих инвестиционных паях, так как его активы заморожены. Со слов юриста я понял, что свои бабки Абрахамс уже доедал. Без всяких колебаний я выкупил все паи втридорога (точнее, в пять раз дороже рынка), переправил Абрахамсу миллионы нала и стал молиться.
Я молился, чтобы Абрахамс не сдал меня. Я молился, чтобы он выстоял на допросах. Я молился, чтобы он – даже согласившись на сотрудничество – сдал бы всех, кроме меня. Но из разговора с одним нью-йоркским авторитетом я понял, что частичного сотрудничества не бывает: либо ты закладываешь всех, либо не закладываешь никого. И у меня сердце ушло в пятки.