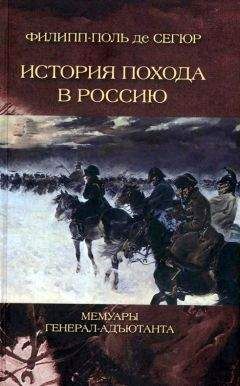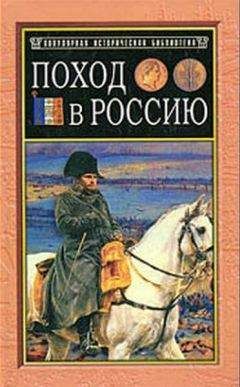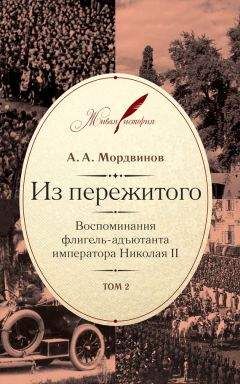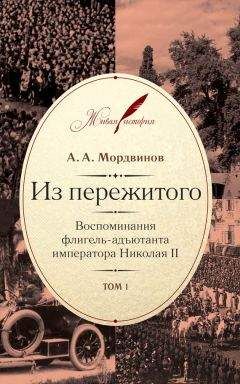Был отдан приказ начать общий приступ. Ней атаковал цитадель, Даву и Лобо — предместья у стен города. Понятовский, уже находившийся на берегах Днепра с шестьюдесятью пушками, должен был опять спуститься вдоль реки, разрушить мосты неприятеля и лишить гарнизон возможности отступления. Наполеон хотел, чтобы в то же самое время гвардейская артиллерия разрушила главную стену своими двенадцатифутовыми пушками, бессильными против такой толщины. Артиллерия, однако, не послушалась и продолжала свой огонь, направляя его на прикрытия дороги, пока не очистила ее.
Всё удалось сразу, за исключением атаки Нея, единственной, которая должна была иметь решающее значение, но которою пренебрегли. Враги были внезапно отброшены назад, за свои стены, и все, кто не успел укрыться, погибли. Однако, идя на приступ, и наши атакующие колонны оставили длинный и широкий кровавый след — ранеными и убитыми. Например, в одном батальоне, расположившемся флангом к русским батареям, ядро уложило сразу двадцать четыре человека.
Между тем армия, расположившись амфитеатром на возвышенностях, с безмолвной тревогой смотрела на своих товарищей по оружию. Когда атакующие в удивительном порядке, несмотря на град пуль и картечи, с жаром бросились на приступ, то армия, охваченная энтузиазмом, начала рукоплескать. Шум этих знаменитых аплодисментов был услышан атакующими. Он вознаградил самоотверженность воинов, и хотя в одной только бригаде Дальтона и в артиллерии Рейндра пять батальонных командиров, полторы тысячи солдат и генерал были убиты, все же те, которые остались в живых, рассказывали, что эти аплодисменты, отдававшие дань их храбрости, были для них достаточным вознаграждением за те страдания, которые они испытывали!
Достигнув стен города, осаждающие укрылись за разрушенными ими внешними зданиями. Перестрелка продолжалась. Свист пуль, который повторяло эхо, становился всё громче. Императора он утомил, и он хотел удалить свои войска. Так ошибка Нея, сделанная накануне одним из батальонов по его приказанию, теперь была повторена целой армией. Но первая обошлась армии в триста-четыреста человек, вторая — в пять — шесть тысяч! Однако Даву всё же убедил императора, что он должен продолжить атаку.
Настала ночь. Наполеон ушел в палатку, которую теперь перенесли в более безопасное место, чем накануне. Граф Лобо, завладевший рвом, чувствуя, что он не может больше держаться, приказал бросить несколько гранат в город, чтобы прогнать оттуда неприятеля. Тогда же над городом увидали несколько столбов густого черного дыма, временами освещаемого неопределенным сиянием и искрами. Потом со всех сторон поднялись длинные снопы огня, точно всюду вспыхнули пожары. Скоро эти огненные столбы слились вместе и образовали обширное пламя, которое, поднявшись вихрем, окутало Смоленск и со зловещим треском пожирало его.
Такое страшное бедствие, которое он считал делом своих рук, испугало графа Лобо. Император, сидя перед палаткой, молча наблюдал это ужасное зрелище. Еще нельзя было ни определить причин этого бедствия, ни предугадать его результатов, и ночь была проведена под ружьем.
Около трех часов утра один из унтер-офицеров Даву отважился подойти к основанию стены и бесшумно вскарабкался на нее. Тишина, господствовавшая вокруг него, придала ему смелости, и он проник в город. Вдруг он услышал несколько голосов, речь была славянская. Застигнутый врасплох и окруженный, он решил, что больше ничего не остается, как сдаться или быть убитым. Но первые лучи солнца показали ему, что те, кого он принимал за врагов, были поляки Понятовского! Они первые проникли в город, покинутый Барклаем.
После сделанных разведок и очистки ворот армия вошла в Смоленск и прошла дымящиеся и окровавленные развалины в боевом порядке, с военной музыкой и обычной пышностью. Но свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы!
Когда император узнал, что Смоленск окончательно занят и огонь почти погас, и когда дневной свет и многочисленные донесения достаточно разъяснили ему положение вещей, то он увидел, что и здесь, как на Немане, в Вильне и Витебске, призрак победы, так манивший его, снова ускользнул. Как обычно, он обследовал поле битвы, чтобы оценить потери сторон.
Он увидел, что оно покрыто мертвыми телами: русских было великое множество, и очень мало наших. Большинство из них были голыми; французов можно было отличить по белизне их кожи, менее костлявым и мускулистым телам, чем у русских. Мрачный смотр мертвых и умирающих! Какой печальный отчет предстояло сделать! Боль, которую испытывал император, была очевидной и проявлялась в его возбуждении; однако политика была его второй натурой, и она вскоре заставила замолчать чувства.
Этот подсчет мертвых на следующий день после битвы был обманчивым и имел дурной привкус: большинство наших уже было убрано, но вражеские солдаты всё еще были здесь — естественно, вначале заботились о своих.
Тем не менее император написал, что его потери в предыдущий день были значительно меньшими, чем у русских, что захват Смоленска сделал его хозяином соляных промыслов и его министр финансов может рассчитывать на двадцать четыре миллиона дополнительных доходов.
Продолжая свою разведку, он подошел к одним из ворот цитадели, вблизи Борисфена, напротив пригорода, расположенного на правом берегу и всё еще занятого русскими. Здесь в окружении маршалов Нея, Даву, Мортье, гофмаршала Дюрока, графа Лобо и еще одного генерала он присел на коврики перед хижиной и сделал это не для того, чтобы наблюдать за врагом, сколько для облегчения своего сердца; кроме того, он надеялся, что лесть или пыл его генералов придадут ему силы, необходимые для борьбы с реальностью и с самим собой.
Наполеон говорил долго, страстно и без остановки: какое бесчестье для Барклая отдать без борьбы ключ от старой России! И какое поле славы он предложил ему! Какое преимущество для него! Укрепленный город, который увеличивает его средства! Этот же город и эта река могут послужить тому, чтобы принять и защитить остатки армии в случае неудачи!
И что он теперь имеет для того, чтобы сражаться? Армию, конечно, многочисленную, но стесненную в пространстве, которой теперь можно отступать разве что в пропасти. Она подставлена под его удары. У Барклая есть все, кроме решительности. С Россией всё ясно. Ее армия может быть лишь свидетельницей падения городов и не в состоянии их защитить. В самом деле, на какой более благоприятной почве мог бы Барклай остановиться? Какую позицию он намерен отстаивать? Он, покинувший Смоленск, который он называл Святым Смоленском, сильным Смоленском, ключом Москвы, оплотом России, который должен был стать могилой французов! «Сейчас мы увидим, какие последствия будет иметь эта потеря для русских; мы должны увидеть литовских солдат, нет, даже смоленских, которые покидают ряды армии, возмущенные сдачей их столицы без борьбы».