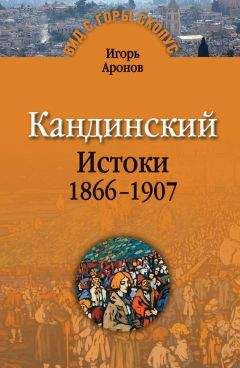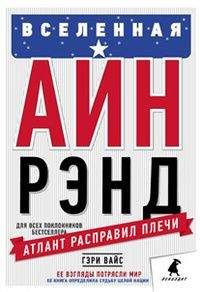В вертикально вытянутой гравюре Кандинского всадник пролетает под белой небесной аркой, в христианском искусстве обозначающей божественную сферу, а чудовище показано внизу, на дне пропасти. Это придает композиции религиозный характер. Тем не менее христианская иконография змееборцев не проясняет смысл гравюры, которая не представляет ни самого сражения, ни победоносного героя с поверженным у его ног чудовищем. Кроме того, рыцарь Кандинского не имеет ни нимба, ни каких-либо других атрибутов христианского святого. Примечательно также и то, что художник изобразил не одноглавого змея, характерного для иконографии битвы св. Георгия со змеем, и не семиглавого дракона, отождествляемого в Апокалипсисе с Сатаной, а трехглавого змея, популярного в русском фольклоре.
Согласно одному из распространенных в русских сказках и былинах мотивов, змей (Змей Горыныч), как и в произведении Кандинского, живет в горной стране. Описание змея в фольклоре варьируется. Чаще всего чудовище имеет три головы, но может обладать и шестью, девятью и двенадцатью головами. Увеличение голов змея соразмерно умножению его силы. Змей обычно имеет крылья и быстро летает по воздуху. Часто он появляется в виде вихря. Сказочное чудовище охраняет волшебные сокровища своей земли, включая медное, серебряное и золотое царства, сад с молодильными яблоками и источники «сильной (живой)» и «слабой (мертвой)» воды. Змей похищает людей, обычно женщин, и уносит их в свое далекое царство. Чтобы спасти похищенных жертв, герой совершает путешествие в земли змея, сражается с ним и убивает его, как правило, с помощью подмены воды: во время единоборства герой пьет воду жизни, а змей – смерти[143]. Уже во второй половине XIX в. ученые интерпретировали фольклорного змея как мифологического представителя Смерти, уносящей живых в страну мертвых [Афанасьев 1861: 5–6; 1865–1869(2): 594–595; Потебня 1865а: 94; 1965b: 234–288]. Гибель змея в сказках и былинах означает победу героя над Смертью, являющуюся условием возвращения героя и спасенных им жертв змея в мир живых.
Кандинский исключил из своей легенды самый распространенный фольклорный мотив – царевну, спасаемую героем от змея. Кроме того, в отличие от фольклорных героев, как и от христианских святых и небесных сил, всадник Кандинского не вступает в схватку со змеем, а пролетает над ним, триумфально подняв копье и щит. Змей же остается «прикованным» к земле, не имея сил схватить всадника. Полет героя Кандинского может быть понят как его торжество над чудовищем, которое художник лишил крыльев, изменив тем самым традиционную иконографию змея.
В «Ступенях» Кандинский сравнивал художника с всадником:
Лошадь несет всадника со стремительностью и силой. Но всадник правит лошадью. Талант возносит художника на высокие высоты со стремительностью и силой. Но художник правит талантом [Кандинский 1918: 30–31].
Здесь Кандинский по-своему интерпретирует образ мифического крылатого коня Пегаса, в творчестве символистов являвшегося метафорой вдохновения поэтов и художников[144]. Всадник Кандинского выражает свободу художника, реализуемую им в своем внутреннем мире, в искусстве, в образах, созданных его воображением. В Трехглавом змее эта свобода воплощается в полете всадника, который символизирует духовную победу над смертью. Смысл победы для Кандинского заключался в преодолении смерти через искусство. На этом уровне толкования образа можно сказать, что Кандинский создал собственный миф о змееборце посредством переосмысления традиционных религиозных и фольклорных представлений.
Миф Кандинского отвечает символистской идее победы искусства над смертью. Владимир Соловьев в работе «Общий смысл искусства» обосновал необходимость эстетической связи между искусством и природой, материальным миром. Под эстетическим началом, или красотой, он понимал воплощение в чувственных формах идеального нравственного содержания, то есть добра (любви и истины). Красота как нравственный идеал может осуществиться полностью, только если духовное начало победит психический эгоизм человека и физический эгоизм материи. Материальная жизнь может стать нравственной только через одухотворение красотой. Зло в материальном мире проявляется через смерть и разложение. Кроме того, что человек подчинен вещественному процессу разрушения, он, как сознательное существо, подвержен «нравственному злу». Различие между идеальной, то есть достойной, нравственной жизнью и недостойным, безнравственным существованием обусловлено соотношением «частных элементов мира друг к другу и к целому». Равновесие частей и целого есть идеал, абсолютная истина, «совершенная красота». Всякое зло сводится ко лжи, которая нарушает это равновесие. Это определяет нравственную ложь, ложную мысль, которая утверждает одну из сторон жизни, отрицая все другие, или ложь в искусстве, то есть «безобразие». Красота в природе несовершенна, так как все ее проявления подвержены смерти, «всеразрушающему материальному процессу». Отсюда Соловьев выводит высшую, идеальную цель искусства: «превращение физической жизни в духовную». Духовная жизнь способна к самовыражению; она одухотворяет материю и «свободна от власти материального процесса и потому пребывает вечно». Духовная победа искусства над смертью через «совершенное воплощение духовной полноты в нашей действительности» есть идеал, к которому искусство должно стремиться и который исполнится только в будущем. В этом смысле искусство это пророчество о будущем. Изображение предмета или явления с точки зрения этого идеала и есть «художественное произведение» [Соловьев 1990: 126–134].
Летящий всадник Кандинского в Трехглавом змее выражает стремление художника, используя определение Владимира Соловьева, к духовной победе красоты, нравственного начала, добра и истины над смертью, злом и ложью. Духовная победа означает не физическое уничтожение змея, а внутреннее преодоление страха перед ним. Появление героя с белой аркой света в черном небе страны змея символически содержит пророческую весть о спасении.
Кандинский передавал свой страх смерти в 1894 г. в письме Николаю Харузину, метафорически описывая переживания людей, которые стоят на разрушающихся скалах в Одессе:
Иногда мне кажется, что все мы стоим на таких изменчивых скалах и все ищем более крепкой опоры на них, а они ломаются кусками и сыплются. И вдруг мы видим со страхом, что лишенные опоры, падают вокруг нас близкие, дорогие нам люди. И мы ничем, ничем не можем помочь им, удержать их. Это так ужасно, что человек утешает себя мыслью, что со скал этих мы не исчезаем в какой-то черной яме, а уносимся в лучший, более крепкий и прекрасный мир. И хорошо, если можно так верить <…>. И когда вдруг впервые он всем телом своим почувствует, как слаба и ненадежна его почва, как беспомощен он и все, на чью руку он бессознательно привык опираться, тогда он ищет Бога. И хорошо, если он найдет Его. А нам, Его не нашедшим, страшнее и мрачнее. И как ни толкуй, что всегда один будет ликовать, а другой умирать, все-таки страшно и за того, кто умирает, и за того, кто ликует. Страшно нечаянно видеть пустое место в своих рядах[145].