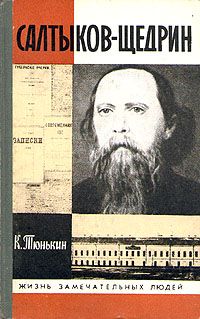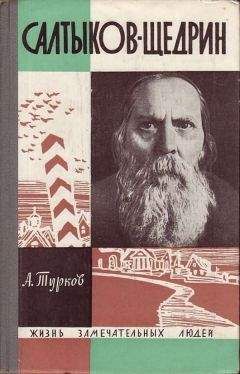Но вот изнурительный труд по составлению губернского отчета окончен. Отчет отослан в Петербург. Казалось бы, должно наступить чувство облегчения и удовлетворения — ведь «везде можно быть полезным», и он действительно оказался полезен. Но в личной судьбе ничего не меняется. Даже представление губернатора о повышении в следовавший ему чин — коллежского асессора — отклоняется в Петербурге. Наступает тяжелая душевная реакция, чувство подавленности, рождающее строки тоски и боли: «...для меня моя участь с каждым днем делается все более и более несносною, я изнываю и нравственно и физически, и я не знаю, к чему я буду способен, если это пленение души моей будет продолжительно» (из письма к Д. Е. Салтыкову от 21 марта 1850 года).
Ольга Михайловна и Дмитрий Евграфович пишут о каких-то попытках в его пользу, но как все это неопределенно, глухо и темно! Салтыков теряется в сомнениях и догадках. И действительно, Ольга Михайловна подала еще одно прошение на «высочайшее имя». Император обладал, однако, отличной памятью, и на «всеподданнейшем докладе» опять, уже вторично, почти через год, 11 июня, появляется жестокое слово «рано». Это столь характерное для всякого самодержавного образа мыслей символическое словечко решило, в сущности, судьбу Салтыкова на все последующие пять с половиной лет его жизни, какие бы решительные шаги ни предпринимались им самим, родителями, двумя вятскими губернаторами — А. И. Середой и H. H. Семеновым, влиятельнейшими сановниками николаевского царствования — оренбургским генерал-губернатором В. А. Перовским и генерал-губернатором Восточной Сибири H. H. Муравьевым (одно время Салтыков хотел спастись от Вятки в Оренбурге и даже Иркутске!). Все было напрасно. Надеждам на освобождение, пока на троне сидел Николай, не суждено было сбыться...
Еще зимой прошлого года, в декабре, почти непроезжими дорогами, в санях, запряженных «гусем» (дороги были так узки, что приходилось запрягать лошадей не обычной русской тройкой, а одну вслед за другой), отправляется он с ревизией в «дикий» (по выражению Герцена) заштатный городок Кай, лежавший поистине «за лесами, за долами», «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», в самом далеком северо-восточном углу губернии (с этим городком будет связано одно из самых тяжелых его переживаний вятской службы). Кругом царило вечное ледяное безмолвие непроходимых бездонных вятских снегов, замерзших лесов, полей и рек. Сани то скрывались в мрачные бездны столетних ельников и сосновых боров, в потерявшие листву действительно угольно-«черные» на девственно-белом фоне осинники и березняки, то ныряли холмами и увалами, то скатывались на замерзшие русла рек и речушек, по берегам которых как бы росли из снега фантастическими грибами бесформенные груды «вятских» деревень и «починки» русских поселенцев.
В июне же 1850 года, когда самодержец не счел возможным выпустить его из «опального захолустья», Салтыков отправляется в город Уржум, памятный ему по переписке о брюшном тифе в местной тюрьме. Здесь, в тюрьме, он повстречался с характернейшим типом времени, знаменитым кляузником, лекарем Иваном Васильевичем Георгиевским, который заинтересовал его своим упорным «обличительством», своими беспрестанными жалобами на всех, всё и вся, за что в конце концов был выслан в Тобольск с запрещением «ябедничать». С любопытством смотрел Салтыков на этого странного, полубезумного, одержимого навязчивой идеей человека — своеобразное порождение все того же кляузнически-чиновничьего «порядка вещей», извращенную психологию и самый дух которого молодой чиновник все еще надеялся победить и искоренить «честной службой». И еще одно влекло его к Георгиевскому, возбуждало интерес и пытливый взгляд. Лет тридцать тому назад, еще студентом Медико-хирургической академии в Петербурге, был близок Георгиевский к стихотворцу графу Дмитрию Ивановичу Хвостову. Но ведь лет за двадцать до появления у Хвостова студента-медика в окружении поэта и сановника обретался отец Салтыкова Евграф Васильевич. Не забыл Салтыков Георгиевского, выпустил его потом на страницы «Губернских очерков» под именем Перегоренского, величающего себя «поклонником правды и ненавистником лжи» и при этом изобретателем трех удивительнейших наук: правдистики, патриотистики и монархомании.
Колеса вятского административного механизма — частицы общероссийского — вращаются и вращаются (вхолостую или нет — другой вопрос!). Составляются новые комитеты — по содействию сельскохозяйственной выставке в Петербурге, «о смирительных и рабочих домах» (то есть тюрьмах), о порядке содержания почтовых станций. Делопроизводитель в этих комитетах — Салтыков. Вскоре на его плечи возлагается еще одна ноша: он, как когда-то Герцен, готовит «Вятскую выставку сельских произведений». Эти «произведения» представляет не только Вятская, но и еще пять губерний: Казанская, Пензенская, Нижегородская, Симбирская и Саратовская — чуть не половина Европейской России! Разнообразие дел, которыми занят Салтыков, — удивительнейшее.
Во всем, что делает, что предпринимает Салтыков в это время, начинает проглядывать определенная жизненная задача, которая потом даст себя знать впервые в «Губернских очерках», а затем во всем творчестве. Эта задача, эта, может быть, ужо сознательная цель — познание народной жизни, жизни крестьянина — хлебопашца, земледельца, зверолова, строителя и всяческого иного умельца, его духовных исканий; жизни низших городских сословий — того многочисленного слоя, что составлял основную массу городского населения — разночинцев, мелких ремесленников, торговцев, ютившихся в маленьких, двухоконных домишках, трудившихся в сапожных, шорных, столярных и слесарных мастерских, торговавших в лавчонках и питейных заведениях...
Еще в мае 1848 года только лишь появившегося в Вятке Салтыкова поразил своей торжественностью, величием и поэзией «народный праздник, к которому крестьяне привыкли веками» (Герцен), — «шествие» чудотворной великорецкой иконы св. Николая Хлыновского. В «Былом и думах» Герцен так передал легенду о «явлении» этой иконы еще в XIV веке: «Верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новогородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новогородцы поселились в Хлынове (Вятке), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки; новогородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку...» А Салтыков в «Губернских очерках» описывает, как этот народный праздник начинается в Вятском кремле, на площади и в кафедральном соборе, где хранится икона. «Соборная площадь кипит народом; на огромном ее пространстве снуют взад и вперед пестрые вереницы богомолок; некоторые из них, в ожидании благовестного колокола, расположились на земле, поближе к полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленные котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные медные гроши на свечу и на милостыню. Тут же, между ними, сидят на земле группы убогих, слепых и хромых калек, из которых каждый держит в руках деревянную чашку и каждый тянет свой плачевный, захватывающий за душу стих о пресветлом потерянном рае, о пустынном «нужном» житии, о злой превечной муке, о грешной душе, не соблюдавшей ни середы, ни пятницы... Тут же, около воткнутых в землю колышков, изображающих собою временные ярмарочные помещения, толкаются расторопные мещане и подгородные крестьяне, притащившиеся на ярмарку с бураками, ведерками, горшками и другим деревенским припасом. И весь этот люд суетится, хлопочет и беспрерывно обновляется новыми толпами богомолок, приходящими бог весть из каких стран. Гул толпы ходит волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны». Что же, в конце концов, хочет выразить этот «гул толпы», что слышится в этом народном говоре, ласкающем слух «пуще лучшей итальянской арии»?