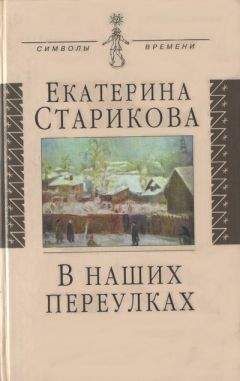24-го июля, в Ольгин день, мы покупаем в леспромхозовском магазине всякое угощение, и на этот раз я не даю Сане спрятать в подпол «Столичную», она красуется на столе. Мы вчетвером отмечаем мамины именины и ведем задушевные разговоры. Сидя на железной кровати, покрытой лоскутным одеялом, Дмитрий Иванович говорит: «А я, Катя, вышел из партии». «Исключили?» — поправляю я его, зная, что из партии не выходят, из нее изгоняют. «Да, нет, — возражает Дмитрий Иванович, — сам вышел». — «Как же это?» — «А вот послушайте, как дело было. Вернулся я в деревню с фронта, ну, отгуляли день, слышу на дворе скотина ревет, посмотрел, корма никакого не осталось. А когда нас провожали из армии, говорили: дома вам помогут, требуйте, если что, вы — герои, победители. Вижу я такое дело, иду к председателю и прошу корма для скотины. Он молча выписывает сена пуд, ну там еще кое-чего. Получил все, порядок. Проходит еще несколько дней, я огляделся и вижу, что скотину-то я накормил, а ребятишкам моим — двое у меня их тогда было — есть нечего. Пошел опять к председателю, говорю ему: мы там воевали, а моим ребятам здесь есть нечего, выписывай хлеба. А он отвечает: ты, что положено фронтовикам, получил, а большего у меня и нет ничего. Вас тут много возвращается». Пошел я домой ни с чем. Что делать, не знаю. А завтра входят ко мне в избу трое, наши деревенские, и говорят: подписывайся на заем. Какой такой заем, спрашиваю я. А они объясняют: на послевоенное восстановление народного хозяйства, надо помочь стране. Я кричать начал: стране помочь? А мои ребята — не страна? Им кто поможет? Не буду подписываться и все. Ушли. А на другой день вызывают меня в райком партии. Иду семнадцать километров, вхожу в райком. Они все там сидят за столом, а я стою перед ними. Секретарь райкома начал, а они все подхватили: как же ты, коммунист, фронтовик, а такой несознательный? Надо хозяйство стране восстанавливать или не надо? А я в ответ, что мне надо прежде всего своих ребят накормить, а потом уж и все остальное. Дайте вы мне сначала в заем, отработаю. А они мне: положишь на стол партбилет. А я совсем дошел, вынимаю свой билет и кладу на ихний стол: берите! Мне этим билетом ребят не накормить. Они ошалели. Да ты что, что ты, возьми обратно! А я свое: не возьму! Тогда они осерчали и грозят: бери, мы с тобой еще не так будем разговаривать. Взял я билет, пошел домой. Они ни с чем, и я ни с чем. А через несколько дней сам председатель приносит мне повестку: «Тебя, Дмитрий, в обком вызывают. Все из-за этого проклятого займа. Я тебя подброшу на машине, у меня там тоже дела есть». Приезжаем. Та же картина: длинный стол, сидят, в середине — первый. И прямо с ходу: такой сякой, положишь партбилет. А я ему отвечаю: клал уже на один стол, положу и на этот. А они грозятся, что исключат. А это уж ваше дело, отвечаю. Достаю билет и кладу на стол. Как они испугались, Катя! Возьми сейчас же обратно, ты что, с ума сошел? А меня уже заело: не возьму вашего билета и все. Они меня упрашивают, а я на своем стою. Потом надоело мне, повернулся и вышел, а билет так и оставил на столе. Наш председатель ждал меня у дверей на улице. — «Ну и что, исключили?» — спрашиваю я Дмитрия Ивановича. — «На том же заседании, — отвечает он мне. — И стал я жить дальше. И так мне стало легко и спокойно: ни партгрупп, ни бюро, ни попреков, что коммунист. Отпылю на своем тракторе часов двенадцать, приду домой и лягу вот на эту коечку со своей Шурочкой — ничего мне больше не надо. Вот слепнуть только стал, а так — распрекрасная жизнь. И думаю я, Катя, что как я был настоящий коммунист, так и остался. А они — ненастоящие».
Через два дня после маминых именин вдруг примчался на своем мотоцикле Володя с известием: у них в Мугрееве — командировочные из Москвы. Послезавтра уезжают на своем автобусе, могут нас захватить, он уже договорился. Мы с мамой смущены. Признаться, думали здесь пожить подольше. Ведь знаем, что в последний раз. А Володя объясняет: «Такой случай, чтоб транспорт прямо в Москву, у нас раз в сто лет бывает». И Саня не уговаривает погостить. Устала от нас? Отрываем от дел? Вон, огород и впрямь полоть пора. Или они давно озабочены, как нас обратно отправить? И в самом деле, как? С тех пор, как в тридцатом году отняли у Макара лошадь, — вечная проблема. Из Ландеха автобусом до Пестяков, от Пестяков — до Дзе́ржинска (с таким ударением здесь говорят), оттуда так же до Горького, а там еще ухитриться взять билеты. Как мама выдержит? Нет, Володя прав, надо ехать. Спасибо ему. А до Мугреева-то как, до Свято-озера? Да пешком, как же еще. «Не беспокойся, вещи я на велосипеде довезу», — объясняет Саня. На велосипеде через болото? Ну, да надо положиться на привычных людей. Едем.
Накануне разлуки я вспоминаю, что со мной заряженный фотоаппарат моего брата. Никогда не снимала. Но брат дал мне точные указания и велел фотографировать только в полдень при солнце. Я срочно отправляюсь в Ландех запечатлеть на память отцовское село. Идем вместе с Дмитрием Ивановичем, ему — за хлебом. У него мешок за плечами, будет хлеб, надо брать на неделю. Может и до вечера придется ждать этого хлеба. Я так и снимаю Дмитрия Ивановича, уходящего от меня с мешком за плечами. И еще запечатлеваю леспромхозовское безобразие — как свидетельство греха. И еще общую панораму села из-за реки. Собираюсь снять развалины собора, папин дом, бабушкину могилу, кладбищенскую церковь… Жарко, трудно будет дойти до кладбища. Пытаюсь еще раз щелкнуть фотоаппаратом на берегу реки — нет щелчка. Так и этак, нет как нет. Вот беда! И аппарат Алешин испортила, и снимков не сделала. Но делать нечего. Огорченная, бреду обратно в Волково. Все не так, как было задумано. (А оказалось, что аппарат в порядке, да я забыла перевести кадр.)
«Саня, я пойду в баню, ополоснусь с дороги?» — спрашиваю я тетку, вернувшись в деревню. «Да кто же это холодной водой в бане моется?» — «Так ведь жарко». — «Ну уж нет, чтобы гостья в холодной бане мылась? Долго ли истопить». И убегает в баню тотчас же. А когда мы с мамой возвращаемся освеженные из бани, вернулся и Дмитрий Иванович с хлебом. «Воды много горячей, Дмитрий Иванович, не хотите ли помыться с дороги?» — спрашиваю я. «Да ведь вроде бы не суббота, чтобы в бане мыться? Нет, уж я привык по субботам», — отвергает он мое предложение.
В сумерки выхожу на улицу: осталось еще одно невыполненное здесь дело, все время хотела исполнить, да не решалась, а теперь откладывать некуда. Подхожу к Одуваловскому дому и только тогда замечаю, что и он какой-то ощипанный: нет двора, открываю знакомую дверь, выходившую раньше во двор, стучусь и вхожу. Объясняю хозяевам, кто я такая и что есть необходимость перед отъездом побывать в доме моего детства. Не знакомые мне хозяева, леспромхозовские рабочие, охотно пускают меня посмотреть дом: им понятно мое желание с ним проститься. Но как сжался и внутри этот когда-то обширный в моих глазах дом! Как потемнели его стены! И ни одного знакомого предмета, ни одной иконы. А хозяева хвалят дом: повезло им его купить, крепкий, хорошо твой дед построил. Я извиняюсь за позднее посещение и благодарю. В горле — комок.